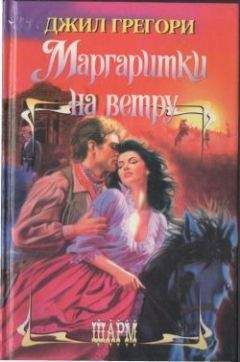Гюи Шантеплёр - Невеста „1-го Апреля“
Каким стечением обстоятельств были они доведены до того, чтобы почувствовать честолюбие, до того времени им неизвестное? Это то, чего не могли постичь Треморы.
Но мало-помалу письма невесты начали приходить реже, и когда Мишель, наконец покончив с своей военной службой, приехал в Париж, обеспокоенный, влюбленный до безумия, все его просьбы, все мольбы о любви были напрасны. М-ль Морель спокойно объявила, что она много раздумывала и что, читая яснее в глубине своей души, она поняла, что она и Мишель не могли дать друг другу счастья… Пурпуровый ротик с таинственной улыбкой говорил наугад, но бедный влюбленный не думал вовсе оспаривать основательность представляемых объяснений.
Месяц спустя Фаустина Морель вышла замуж за старого графа Станислава Вронского, русского архимиллионера.
Мишель был из тех, которые „страдают и умирают молча“. Он облек свое отчаяние в такую же тайну, какой он окружал свою любовь, и не позволил никому постичь всю его силу; но он забросил свои книги, разорвал начатые работы и изменил образ жизни. Почти в продолжение целого года он отдавался удовольствиям, как ранее отдавался учению, искал в них забвения с какой-то подавленной яростью; затем, утомившись, чувствуя все-таки, насколько эта жизнь наслаждений, которую он себе устроил по своей воле, давила его теперь, угрожая его нравственной свободе, он сделал большое усилие, вырвался из Парижа, уехал в Каир и находился полгода в отсутствии.
Злые чары были разбиты, но человек, которого Мишель обрел в себе и явил своим близким, нисколько не напоминал уже ни застенчивого, боготворившего Фаустину юношу, ни восторженного студента, ждавшего всего от науки и мечтавшего посвятить ей всю свою умственную жизнь.
Этот новый человек жил и говорил, как все ему подобные: он много путешествовал и печатал иногда свои путевые впечатления; если он временно удалялся в старую башню, которую он купил, не посоветовавшись ни с кем, и за порог которой допускались немногие из смертных, то его тем не менее встречали ежегодно на театральных премьерах и вернисажах выставок, на ученических спектаклях в зале Боденьера, на генеральных репетициях, на музыкальных утрах в аллее Пото, в литературных погребках и даже в свете, где он появлялся безукоризненно изящный, с равнодушной вежливостью и скучающей улыбкой.
Вечный оптимист, дядя Тремор умер, поздравляя себя с метаморфозой, не задавая себе, однако, вопроса, не оставалось ли чего-нибудь от молодого дикаря, которого он некогда внутренне порицал за его нелюдимый труд и слишком пылкие чувства, под банальной маской парижского джентльмена, учтивые манеры и интеллигентную праздность которого он теперь одобрял. Эта маска спадала действительно только в уединении голубятни Сен-Сильвера или вдали от Парижа и Ривайера, в другом одиночестве, в том, которое создает толпа, где бываешь только путешественником, незнакомцем…
Таким образом протекло восемь лет, исцеляющих рану. Мишель никогда не видел более свою прежнюю невесту, и мало-помалу чарующий образ покинул его воспоминания; между тем, после этих восьми лет, прочитав на площадке Жувелль имя, которое Колетта, сама слишком непостоянная, чтобы верить в вечную печаль, начертала легкою рукой, Мишель задрожал.
Подобно Мишелю, подобно многим, Фаустина ждала от жизни больше, чем жизнь могла ей дать; тщетными были ее хитрости, ее мелкие расчеты честолюбивой женщины. Станислав Вронский был из тех людей, которые боятся, чтобы, делая завещание, не напомнить смерти о своем возрасте. Бедное создание, потерять себя и для чего!
II
День разгорался. На небе медный свет обрамлял огромные причудливые облака, сгущавшиеся и спускавшиеся незаметно до горизонта. Мишель Тремор еще не собрался открыть захваченную с собою книгу; он повторял себе всю историю своей юности, находя удовольствие вспоминать свои мысли, чувства того времени, улыбаясь не совсем весело их свежей непосредственности.
Капля дождя упала ему на руку, но он не обратил на это внимания.
„Бедная женщина“, повторял он себе.
Любопытство заставляло лихорадочно работать его мозг. Он уже не предлагал себе вопроса, часто посещавшего его в бессонные ночи, во время замужества Фаустины: „любила ли она меня?“ И он говорил себе: „теперь, когда она в свою очередь познала горечь обманутых надежд, теперь, когда она знает, что она совершенно напрасно перенесла позор продажного брака, теперь, когда рок отнял у нее те деньги, ради которых она не побоялась связать свою молодость и красоту с дряхлостью старика, теперь, думает ли она обо мне? Думает ли она, что она была бы куда более счастлива, хотя менее богата и блестяща, с несчастным влюбленным, которого она так мучила? Думает ли она, что наслаждение счастьем, которое она дала бы взамен целой жизни, полной самоотвержения и горячей любви, не стоило бы возможности появляться при русском дворе и тратить золото без счета? Сожалеет ли она о том, чего нет? В озлоблении на свою неудавшуюся жизнь предается ли она тем же безумным мечтам, что и я в самое острое время моего отчаяния? Восклицает ли она: „О! если бы все это было ничто иное, как ужасный кошмар, если бы, вдруг, я смогла припасть моей усталой головой к его груди, почувствовать его губы на моих горящих глазах и забыть все — былое и последующее…“
Облака, лес осветились, затем раскат грома потряс все вокруг. Вернувшись вновь к действительности Мишель поднялся и, завернувшись в свой плащ, торопливо направился к большой дороге кратчайшим путем; но дождь увеличивался, а башня Сен-Сильвера находилась еще в расстоянии пяти-шести километров. Мишель колебался; в несколько минут он мог достичь другого убежища — маленькой часовни, показываемой жителями Ривайера иностранцам, как одну из достопримечательностей округи под именем „Зеленой Гробницы“.
Неистовый порыв ветра ускорил решение молодого человека; он повернул назад, перешел площадку Жувелля и углубился в высокий лес, чтобы быстрее добраться до „Зеленой Гробницы“.
Это здание довольно сомнительного, с точки зрения хронологической точности, готического стиля скрывало в глубине леса гробницу неизвестного рыцаря. Почти более полустолетия она была запущена и заросла плющом, который с каждым годом более и более прочно оседал на стенах, портил стрелки оконных сводов, покрывал или окутывал причудливо украшенные химерами рыльца водосточных труб. Мишель любил это меланхолическое местечко. Несколько раз он срисовывал искусным карандашом внешние детали памятника и гробницу, находившуюся внутри часовни, тело таинственного рыцаря в железных латах, его мужественные, немного осунувшиеся черты, закрытые глаза, остроконечную бороду, которая выходила из шлема, с поднятым забралом, руки, сложенные в искусственной позе на шпаге крестом, и даже слепил цоколь могильного ложа: подле украшенного гербовыми лилиями щита большая борзая собака, странная, в роде геральдического животного, которая, казалось, оберегала сон рыцаря…