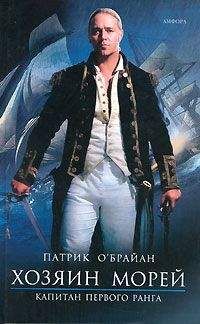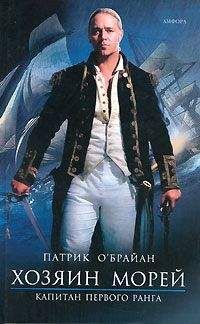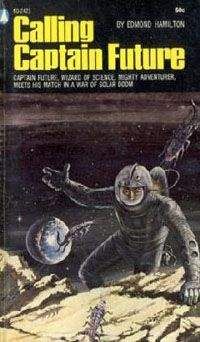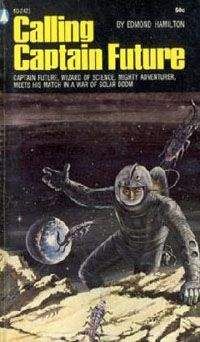Сюзанна Келлс - Последнее прощение
— Кэмпион, — едва слышно отозвалась она.
В тот миг ей показалось, будто во всем мире нет никого, кроме нее, Тоби и этого хрупкого прекрасного цветка. Он посмотрел на нее и тихо проговорил:
— Я буду здесь завтра днем.
И снова подступила безысходность.
— Я не смогу.
Ситник срезали только раз в неделю, и другого предлога отправиться к ручью не было. Да и теперь надо спешить. Тоби выжидательно смотрел на нее.
— Когда вы здесь будете?
— На следующей неделе.
Тоби вздохнул:
— А я буду в Лондоне.
— В Лондоне?
— Отец отправляет меня поупражняться в юриспруденции. Не слишком усердно, говорит он, лишь настолько, чтобы избавиться от услуг адвокатов. — Он глянул на небо, прикидывая время. — Я бы лучше пошел сражаться. Это — правда.
Ему было двадцать четыре, а воевали и те, что гораздо моложе.
Он сел.
— Скучно здесь будет, если пуритане придут к власти.
Она кивнула. Она-то знала, пуритане уже управляли ее жизнью. Она повыше подколола волосы.
— В воскресенье я буду в церкви.
Он посмотрел на нее.
— Притворюсь пуританином.
Он состроил мрачную гримасу, и она расхохоталась.
Время было расставаться. Он должен был идти в соседнюю деревню, где как раз сейчас подковывали купленную им лошадь. Обратный путь в замок Лэзен был неблизкий, но теперь, в предвкушении назначенной встречи дорога пролетит незаметно.
— До воскресенья, Кэмпион.
Она кивнула. Даже разговаривать с ним было грешно, так, по крайней мере, сказал бы отец, но и противиться искушению не было сил. Такова уж была ее любовь, романтическая, но безнадежная, беспомощная. Потому что она была дочерью своего отца, полностью в его власти, и звали ее Доркас Слайз.
Хотя теперь ей очень хотелось бы стать Кэмпион.
Тоби нарезал для нее ситник, превратив однообразное занятие в игру, и ушел. Она смотрела, как он шагал на север вдоль ручья, и мечтала идти рядом с ним. Куда угодно, только подальше от Уэрлаттона.
Она несла домой ситник, укрыв фартуком, цветы лихниса, а ее брат Эбенизер, весь день, тайно следивший за ней, притаившись в тени огромных буков, прихрамывая, спешил к дороге на Дорчестер, чтобы перехватить отца.
Ее звали Доркас, а ей хотелось бы зваться Кэмпион.
Глава 2
Спину Доркас ожег кожаный ремень.
Тень Мэттью Слайза на стене в ее спальне уродливо расползлась. Он принес к ней в комнату свечи, расстегнул ремень. На его массивном лице запечатлелось бремя гнева Господня.
— Блудница! — Его рука, взмахнув кожаным ремнем, снова опустилась. Гудвайф Бэггерли, вцепившись в волосы Кэмпион, тащила ее по кровати, чтобы Мэттью Слайзу было сподручнее пороть.
— Потаскуха!
Он был крупным человеком, крупнее всех своих работников, и сейчас на него накатывало бешенство. Его дочь купается нагой в ручье! Нагой! А потом шепчется с каким-то шалопаем.
— Кто это был?
— Не знаю! — Ее голос прерывался рыданиями.
— Кто?
— Не знаю!
— Врешь!
Снова опустился ремень, заставив ее взвизгнуть от боли. Приступ гнева полностью завладел им. Он порол ее, твердя, что она грешница. Ярость распирала его. Концом ремня он задевал за стены и потолок и продолжал экзекуцию, пока ее визги не превратились в безнадежные всхлипывания. Сама же она свернулась клубочком возле подушек. На запястье, там, где прошелся ремень, проступила кровь. Гудвайф Бэггерли, чьи руки по-прежнему были запущены в волосы Кэмпион, выразительно посмотрела на хозяина:
— Еще, сэр?
Мэттью Слайз жадно хватал воздух. Его короткие черные волосы растрепались, красное лицо было перекошено еще не перебродившей яростью.
— Блудница! Потаскуха! Бесстыдница!
Боль была ужасна. Спина покрылась синяками и кровоподтеками, кожаный ремень оставил следы на ногах, животе и руках. Не было сил произнести хоть слово, и она едва слышала слова отца.
Однако эта заторможенность только распаляла его. Ремень рассек воздух и полоснул ее по бедрам. Она вскрикнула. Черное платье едва ли смягчало силу ударов. Мэттью Слайз хрипел. Ему было пятьдесят четыре года, но для своих лет он был по-прежнему необыкновенно силен.
— Голая! Женщины принесли грех в этот мир, а грех женщины — ее нагота. Это христианский дом! — Он выкрикнул последние слова, сопроводив их взмахом ремня. — Это христианский дом!
За окном прокричала сова. От ночного ветра колыхались занавески, трепетало пламя свечи, заставляя дрожать огромную тень на стене.
Мэттью Слайза трясло, но гнев его иссякал. Он подпоясался ремнем и застегнул пряжку, поранив ею руку, но даже не заметил этого. Только приказал Гудвайф:
— Пусть спустится, когда приведет себя в порядок.
— Слушаюсь, сэр.
Это была не первая порка в жизни девушки — она уже и со счета сбилась, сколько раз отец изливал на нее гнев Господа при помощи своей правой руки. Она всхлипывала, уже не чувствуя ничего, кроме боли. Гудвайф Бэггерли шлепнула ее по щеке:
— Вставай!
Элизабет Бэггерли, которую Мэттью Слайз после смерти своей жены удостоил чести именоваться Гудвайф, то есть «хозяйка дома», была сварливой, низенького роста толстухой с маленькими красными глазками и грубыми чертами лица. Она управляла слугами и посвятила жизнь искоренению пыли и грязи, точно так же, как ее хозяин искоренению греха. Слуги работали в Уэрлаттоне, понукаемые ее пронзительным, неприятным голосом. Помимо прочего Мэттью Слайз вверил ее попечению дочь.
Когда Слайз скрылся за дверью, Гудвайф протянула Кэмпион чепец.
— Тебе должно быть стыдно, моя милая, очень стыдно! В тебя вселился дьявол, вот в чем дело! Если бы твоя бедная матушка могла видеть это, она сгорела бы со стыда! Поторапливайся!
Бесчувственными пальцами Кэмпион натянула чепчик. Дыхание ее прерывалось всхлипываниями.
— Поторапливайся, девочка!
В доме было тихо и жутко. Все слуги знали, что идет порка, они слышали крики, гневный голос хозяина, свист ремня, визги. Но чувства свои они привыкли скрывать. Высечь могли любого.
— Встань!
Кэмпион дрожала. Она знала, что, по крайней мере, ночи три-четыре не сможет спать на спине. И бесполезно сетовать. Она двигалась как заведенная, наперед зная, что произойдет. От отцовской власти не было спасения.
— Вниз, девочка!
Эбенизер, который был на год младше сестры, сидел в огромной зале и читал Библию. Пол сверкал. Мебель блестела. Его глаза, темные, как сам грех, как само пуританское платье, безучастно взирали на сестру. Его левая нога, искривленная, при рождении, неуклюже торчала вперед. Он рассказал отцу о том, что видел, а потом с тайным упоением прислушивался к ударам ремня. Эбенизера никогда не били. Он всегда стремился заслужить отцовскую благосклонность и добивался этого кротким послушанием, часами, проведенными за чтением Библии, и молитвой.