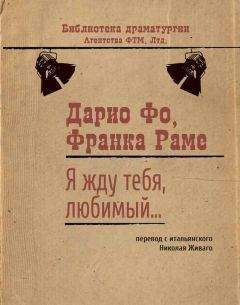Анастасия Туманова - Не забывай меня, любимый!
– Пили. Руби. Делай что хочешь, аспидка, – бурчал Яков, глядя в заснеженное окно. – Хоть огурцы в нём соли, мне без вниманья. Только отец всё равно не позволит.
Дарья с сомнением посмотрела на большое кресло, в котором, спрятав ноги в валенки, неподвижно, как статуя, сидел дед Митро. Он даже головы не повернул в сторону сына с невесткой, но Дарья была уверена: старик слышал всё. На восьмом десятке лет он ещё не жаловался ни на слух, ни на глаза. И именно дед несколько минут спустя, кинув взгляд в окно, негромко, ни к кому не обращаясь, сказал:
– Подошёл кто-то.
Разговоры тут же смолкли. Дарья, побледнев, встала с места, взглянула на мужа. Испуганные цыгане сидели не двигаясь. Кто-то со страху дунул на свечку, и комната утонула во мраке.
– Вы что, с ума сошли? – наконец раздался из потёмок спокойный голос деда. – Ещё под кровати попрячьтесь в своём-то дому! Что, отпереть некому? Так я сам встану, чёрт с вами, открою!
– Отец, но ведь там эти… новые могут быть… – прошептала Дарья. – Или ещё какие бандиты…
– Ну и что? Первый раз, что ль? – ехидно спросил дед. – Авось и рояль наконец укатят, в прошлый раз глянулся же он им, примерялись, да в двери-то, вот беда, не пролезло… А сейчас, поди, подпилят край да протащат, тем и успокоятся… Отпирайте, сказано вам!
Дверь между тем сотрясалась от ударов кулаком. Между ударами кто-то что-то сердито вопил. Прислушавшись, цыгане разобрали вполне отчётливое:
– Ромалэ, со тумэ, мулэ?![31] Открывайте! Спите, что ли, там все?!
– Это же наши! – просияв, всплеснула руками Дарья. И кинулась к двери, в то время как остальные, толкаясь у стола, бранясь и мешая друг другу, зажигали свечу. Она вспыхнула как раз в тот момент, когда, брякнув щеколдой, распахнулась входная дверь и в комнату повалили таборные – засыпанные снегом, пахнущие дымом и лошадиным потом, замёрзшие и улыбающиеся. Дарья, завизжав, как девочка, с размаху кинулась в объятия матери, потом попала в руки братьев, потом – их жён и уже под конец, счастливая, запыхавшаяся, чуть дышащая, упала на грудь Илье:
– Дадо! Да-а-адо… Дэвла, да откуда вы?!
– А то не знаешь откуда, глупая? – проворчал Илья, прижимая к себе дочь. – Из кочевья… Думали сразу к Гришке в Смоленск ехать, зимовать, как обычно, да цыгане кругом говорят – в Москве вовсе голодно…
– Мы вам всего-всего привезли! – вмешалась улыбающаяся и торопливо разматывающая с головы платок Настя. – И муки, и пшена, и солонины, и масла… Сала и то достали!
Дарья украдкой скользнула глазами по невесткам Насти, которые вошли босые и привычно расхаживали по комнате, ожидая, пока «отойдут» замёрзшие ноги. Торбы цыганок были пустыми.
– Отобрали на заставе, да? – стараясь, чтобы её голос звучал не слишком разочарованно, спросила она. – Ты не убивайся, это сейчас дело обычное. Люди, которые ездят, говорят, что по десять раз останавливают, смотрят, проверяют… И всё как есть забирают! Ничего, не мучайся, у меня вобла есть и хлеба фунта четыре, хватит, да ещё можно…
Договорить ей не дал дружный смех пришедших. Хохотал даже Илья, сверкая белыми крупными зубами, а невестки заливались в семь голосов, вытирая грязными рукавами слёзы и толкая одна другую локтями под бока. Им вторили полуголые дети, уже успевшие облепить со всех сторон печь и прижаться кто спиной, кто боком, кто ладонями к тёплым голубым и зелёным изразцам.
– Да что вы?.. – растерянно спросила Дарья, переводя взгляд с одного лица на другое. – Что вы, дуры, ржёте? Отец, скажи хоть ты мне, что за…
Договорить она не успела: Илья отошёл от двери и крикнул кому-то в сени:
– Чяялэ![32] Эй! Заводите тётку Марфу!
Через мгновение сени затряслись от тяжёлой першеронской поступи, и в комнату, ведомое под руки умирающими со смеху молодыми цыганками, вошло странное существо. Это была уродливая, бесформенная, огромная таборная тётка, облачённая в драную собачью доху, от которой шёл невыносимый запах мокрой псины и почему-то керосина, в многоярусные грязные юбки и потерявшую всякий вид шаль с оборванной бахромой. Голова тётки казалась несоразмерно большой из-за обматывающего её и низко надвинутого на самые брови платка. Войдя с оханьями и кряхтением, старуха остановилась у порога.
– Будь здорова, бибиё[33]… – пробормотала Дарья, судорожно соображая, в каком родстве она находится с этой ходячей тумбой, от которой разит, как от дохлого кобеля, и почему цыгане, стоящие вокруг, продолжают покатываться от смеха.
Кто-то из женщин наконец догадался поднести ближе свечу, и Дарья, вглядевшись в лицо старухи, едва удержала крик испуга и брезгливости: всю физиономию цыганки покрывали коричневые и жёлтые бородавчатые наросты.
– Ну что, ромалэ, обниматься-то будем?! – басом провозгласила кошмарная тётка, разводя в стороны толстые, как брёвна, руки.
Дарья, мысленно перекрестившись, храбро сделала шаг вперёд и постаралась не дышать.
– Хватит вам, хватит, безголовые… – спас её Илья, полусердито махнув рукой на сползающих по стене от хохота сыновей и невесток. – Дашка, ты на них вниманья не обращай. А ты, холера, разматывайся живо! Вон чего вздумала! И ведь получилось, чёрт тебя размажь!
Дарья не знала, что и думать, и только, разведя руками, повернулась к хоровым, которые, заинтригованные не меньше, сгрудились вокруг необыкновенной старухи. Та, явно польщённая всеобщим вниманием, принялась неспешно и торжественно разоблачаться. Первыми на пол упали драная шаль и собачья доха – и в комнате раздался дружный вопль восторга. Под дохой на теле цыганки были аккуратно привязаны разных размеров и длины мешочки, наполненные, судя по шуршанию, крупой. Сразу несколько рук потянулось развязывать и распутывать шнурки и тесёмки. Цыганка между тем распустила завязки рукавов и вывалила из каждого на стол по увесистому окороку, появление которых было встречено уже не воплем, а ликующим воем. Со спины «тётки Марфы» общими усилиями отвязали два мешка с пшеном, её безразмерные груди оказались тючками с мукой, а в обширных карманах фартука лежало аккуратно обёрнутое чистыми тряпочками сало. Торжественно размотав с головы рваный платок, цыганка извлекла из-под него целую сахарную голову, которую с поклоном передала прямо в руки Дарье:
– На здоровье дорогим хозяевам! Ханьте пэ састыпэн![34]
Та машинально приняла голову. И чуть не уронила её на пол, увидев, как старуха методично и тщательно отколупывает со своего лица безобразные наросты, со всем старанием складывая их в ладонь. Дарья сделала два торопливых шага к окну, уверенная, что её сейчас затошнит… но, героическим усилием заставив себя поднять глаза, ахнула и всплеснула руками. С совершенно чистой, смуглой, неудержимо улыбающейся большеротой мордашки на неё смотрели сощуренные, чёрные, страшно знакомые глаза.