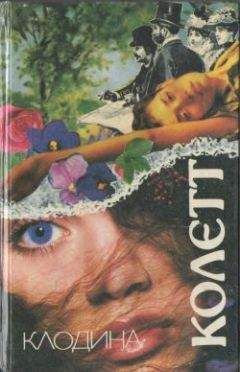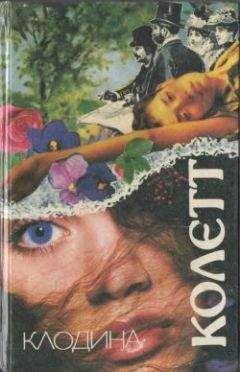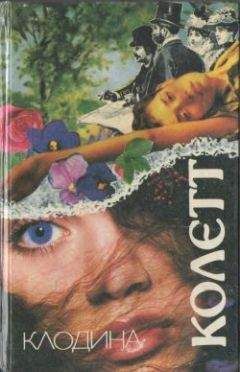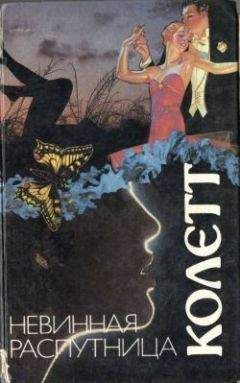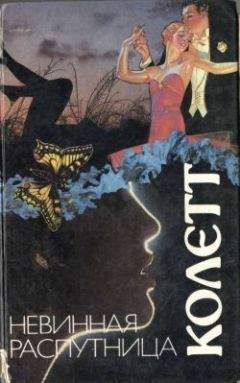Сидони-Габриель Колетт - Клодина в Париже
Но опасаться нечего: папа, как обычно, парит в облаках. Когда я вхожу, он, окружённый своими манускриптами, укрывшись в густой бороде, бросает на меня дикий взгляд. Господин Мариа, тихий как мышка, сидит за маленьким столиком и что-то пишет; при виде меня он тайком вытаскивает из кармашка часы, чтобы взглянуть на них. Его-то как раз и тревожило моё долгое отсутствие!
– О-о-о! – восклицает папа громовым голосом. – Ты пренебрегаешь семейными обязанностями! Не менее часа прошло, как ты ушла из дома!
Господин Мариа бросает огорчённый взгляд на папу. Он-то знает, что я ушла из дома в два часа, а сейчас тридцать пять минут седьмого.
– Господин Мариа, у вас глаза точь-в-точь как у зайца. Но, ради Бога, не подумайте, что я хочу вас обидеть! У зайцев глаза очень красивые, чёрные, удлинённые и влажные. Папа, я не видела тётушку Кёр, не застала её дома. Но у меня была встреча получше, я повстречала одну свою подружку из Монтиньи, Люс, ты ведь помнишь Люс? Она живёт на улице Курсель.
– Люс? Конечно помню! Вы вместе ходили к первому причастию – это та, что собирается выйти замуж.
– Вроде того. Понимаешь, мы долго с ней болтали.
– Ты намерена часто с ней видеться?
– Нет, мне не нравится обстановка в её квартире.
– А что у неё за муж? Противный, да?
– Не знаю, я видела только его фотографию.
Я два дня не выхожу из дома. Сижу в своей комнате или в папиной книжной берлоге за полуприкрытыми ставнями, через которые в дом всё равно проникает слишком много тёплого воздуха и слишком много солнечного света. Я не знаю, в какую дыру мне забиться от этого несущего угрозу, пугающего меня лета. А вдруг я снова заболею! Я вслушиваюсь в грозу, вдыхаю наэлектризованный воздух, влажный после ливня. Напрасно я с такой самоуверенностью лгу себе: история Люс потрясла меня больше, чем мне хотелось бы. Мели, не умея меня понять, только растравляет мою рану, разговаривая со мной о Монтиньи; она получила оттуда последние, очень подробные новости.
– Малышка Кёне только что разродилась.
– Да? А сколько же ей лет?
– Тринадцать с половиной. Мальчиком, кажется, очень славным… А на ореховом дереве верхнего сада в этот год уродится много орехов.
– Помолчи, Мели, мне их есть не придётся, меня там не будет…
– Там такие прекрасные орехи, правда, моя козочка? «Отгадай, сатана, четыре ядрышка в штанах…»
– Выкладывай другие новости.
– Большой бледно-алый розовый куст совсем погубили гусеницы – это мне слуга арендатора пишет, – и люди развлекаются тем, что убивают их; надо же быть такими болванами.
– А чего ты хочешь, что они должны с ними делать? Варенье из них варить, что ли?
– Не стоит умничать: берёшь в руки гусеницу, относишь её в другую местность, ну хоть в Мустье, и тогда все остальные гусеницы за ней последуют.
– И почему только, Мели, ты не сдашь на аттестат зрелости, чего ты ждёшь? Это просто гениально. Это средство ты сама придумала?
– Дьявол меня побери, нет, – говорит Мели, заправляя под чепчик тусклые белокурые волосы. – Всем на свете это известно.
– И это все новости?
– Нет. Дядюшка Канья, мой родственник, из-за белка сделался полностью «всемощным».
– Каким сделался?
– Да, ноги у него распухли до самых колен, хуже того, у него живот «раздувает», он вроде как «подвижен». Что ещё? Новые владельцы замка «Мост под Вязами» перестроили парк, чтобы как следует заняться пасеководством.
– Пресноводством? Но в имении «Мост под Вязами» нет воды.
– Странно, ничего-то ты толком не слышишь сегодня, бедняжка моя! Я тебе говорю, что они построили множество ульев, чтобы завести пасеководство, вот что!
Начищая керосиновую лампу, Мели бросает на меня нежный, слегка презрительный взгляд. Откуда только набралась она таких слов. Намотаем себе на ус.
До чего жарко в этом отвратительном Париже! Не желаю я такой жары! Это не похоже на зной, смягчённый свежим дуновением ветра, как бывает там, у нас, когда легко дышится, – нет, здесь стоит изнуряющая духота. Я лежу днём, вытянувшись на постели, и думаю о многом-многом: о Марселе, который забыл обо мне, о кузене Дядюшке, который бегает за юбками… Он меня разочаровал. Зачем он был со мной таким добрым, таким общительным, почти нежным, если тут же взял и забыл про меня? Ведь надо было совсем немного дней, немного слов, чтобы поближе сойтись друг с другом, и тогда мы часто ходили бы куда-нибудь вместе. С ним мне было бы приятнее немного лучше узнать Париж. Но, видно, для этого очаровательного противного мужчины Клодина недостаточно хороша, чтобы быть другом.
Ландыши на камине раздражают меня, вызывают головную боль… Что со мной? Я так печалюсь из-за Люс? Да, конечно, но тут ещё и кое-что другое, сердце моё разрывается от тоски по родному краю. Я чувствую себя такой же смешной и нелепой, как эта трогательная гравюра, висевшая в приёмной у мадемуазель Сержан, – «Миньона, тоскующая по родному краю». А мне казалось, что я уже излечилась от многого, освободилась от некоторых пристрастий! Увы, я снова возвращаюсь в Монтиньи… Сжимать целые охапки высокой и свежей травы; утомившись, засыпать, прижимаясь к низенькой нагретой солнцем ограде; пить дождевые капли с листьев настурции, которые перекатываются на них, как шарики ртути; рвать на берегу реки незабудки ради удовольствия видеть, как они потом увядают на столе, и слизывать тягучий сок с ивового прутика, ободрав с него кору; дуть, точно в дудочку, в толстые травяные стебли; воровать яйца синичек, мять душистые листья дикой смородины – словом, заключить в свои объятья, обнять всё то, что я люблю! Мне хотелось бы поцеловать прекрасное дерево и чтобы оно ответило мне на мой поцелуй… «Ходите пешком, Клодина, побольше двигайтесь».
Я не могу, не хочу, это нагоняет на меня тоску! Пусть лучше меня трясёт лихорадка дома. Вы, верно, думаете, что под солнечными лучами ваши парижские улицы заблагоухали! С кем мне поделиться всем тем, что тяготит мою душу? Марсель, желая утешить меня, поведёт по магазинам. Его отец лучше понял бы меня… но я робею, я никогда не решилась бы быть с ним совсем откровенной. Синие глаза кузена Дядюшки, видно, и без того уже многое угадывают, эти прекрасные, смущающие меня глаза с коричневатыми морщинистыми веками, которые внушают доверие… и однако даже в то самое мгновение, когда его взгляд говорит вам: «Вы можете мне всё рассказать», у меня вдруг вызывает тревогу улыбка, прячущаяся под серебристыми усами. А папа… папа работает с господином Мариа (должно быть, господину Мариа жарко летом от его бороды. Может, он на ночь заплетает её в косичку?).
Как много я уже утратила из того, что было мне свойственно прежде! Я лишилась невинной радости, которую испытывала от того, что двигаюсь, лазаю по деревьям, прыгаю, точно Фаншетта… Фаншетта не танцует больше из-за своего тяжёлого живота. А у меня тяжёлая голова, хоть, к счастью, нет живота.