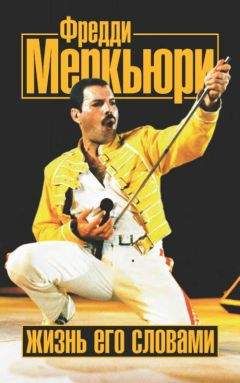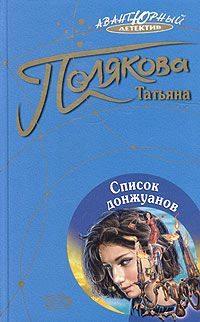Мария Кунцевич - Тристан 1946
Ванда никогда не жаловалась, но, кажется, с Бёрнхэмом, а вернее, с его родней ей приходилось нелегко. Сначала все долго приглядывались к ней, словно бы это была не женщина, а кенгуру или жирафа. Наконец, убедившись, что она обращается с ножом и вилкой, как всякий нормальный человек (читай — «англичанин»), решили во имя Фредди принять ее в члены семьи на том условии, что со временем он сделает из нее настоящую англичанку. Тогда-то Бёрнхэм и Ванда поселились у его матери в Кенте. Насколько я могу судить, скандалов в семье не было, хотя они и прожили вместе два года. Ванда считалась бездетной вдовой, вступившей в законный брак с Фредди. Политика леди Сару никогда не интересовала (покойный муж ее Джереми Бёрнхэм был удостоен титула лорда за свои заслуги в области биологии), она умела обуздывать свой сангвинический темперамент, а у Ванды, кажется, вообще нет никакого темперамента.
Тем не менее и в саду, и в доме не прекращалась холодная война. По распоряжению леди Сары в спальне ее сына перед сном даже зимой настежь распахивались окна. Ванда же, напротив, окна плотно закрывала и даже вставила в камин электрическую печурку. Она по-прежнему готовила грибной суп из «несъедобных» грибов. По-прежнему настаивала на том, что слово «симпатия» вовсе не равнозначно слову «соболезнование», а означает расположение к человеку. Среди роз она по-прежнему сеяла укроп и левкои. Фредди рассказывал мне все это с неявным смешком — вроде бы его все это только развлекало, на самом же деле доставляло страдания. Я уже говорил, что он относился к Ванде, словно к экзотической брошке. Но с моей стороны это был British understatement[36]. Фредди относился к ней как к дароносице. Как к драгоценному сосуду, хранившему его рыцарское стремление воздать женщине ту дань, которую один народ не хотел воздать другому; дань преклонения перед его своеобычием, уважения к его тайнам.
Из-за порока сердца он был освобожден от военной службы, но ради Ванды, вернее из-за Ванды, он так настойчиво защищал в Форин-офисе интересы Польши, что в конце концов потерял возможность вообще что-либо делать и вынужден был уйти на пенсию. Леди Сара, питавшая неприязнь ко всякой общественной деятельности, считала это своей победой: наконец-то сын забудет о заграницах, остепенится и займется единственно достойным настоящего англичанина делом — приведет в порядок свое поместье. Но Фредди отказался наотрез. И ничем больше не связанный с Лондоном, вместе с Вандой уехал в Корнуолл.
Они уехали — и я облегченно вздохнул. Ванда постепенно стала занимать слишком много места в моей жизни. К тому же я сделал открытие, что ее простота не так уж проста. В тысяча девятьсот сорок втором году в Лондон через Испанию пробился один известный варшавский адвокат, большой деляга, который все про всех знал, и любая история делала его богаче на несколько долларов. От него я узнал, что Гашинский стал чуть ли не национальным героем, погиб от руки немцев, а Михал ушел в партизаны. Я уговорил гостя держать эту новость при себе; и сам я тоже долго скрывал ее от Притти. Я хотел сначала проверить слухи по тайным каналам польского правительства в Лондоне и только тогда, с документами в руках, сообщить Ванде, что путь к заключению формального брака с Бёрнхэмом ддя нее открыт. Такие документы мне удалось раздобыть.
Помню этот декабрьский послеобеденный час. Я нарочно приехал к Ванде в такое время, когда Фредди еще сидел в своей конторе, и встретил Ванду на пороге дома. Мы вместе с ней вышли пройтись по парку и там на какой-то аллейке, где угасали хризантемы, я сказал ей: «Ванда, Петр Гашинский полгода назад умер. Твой сын жив и здоров. Ты свободна».
Я был готов к тому, что она прольет одну-две слезы, к этакой лирической грусти. Но того, что произошло, я никак не ожидал. Ванда побледнела, выронила из рук сумочку, схватилась за виски и с возгласом «Петр, Петр!», словно он был где-то поблизости и она хотела его догнать, побежала, не разбирая дороги. Я едва остановил ее, зубы у нее стучали, она, закрыв глаза, все время повторяла: «Петр, Петр!»
На другой день я рассказал обо всем Бёрнхэму. Он решил, что нужно оставить Ванду в покое, пока не пройдет шок. Через неделю он сделал ей предложение. Регистрация брака без посторонних — я один в качестве свидетеля. Ванда отказала. А еще несколько дней спустя Фредди не застал ее дома. Мать думала, что Притти у себя. Фредди, встревоженный, позвонил мне. У нас у обоих были скверные предчувствия, но я быстрее напал на ее след.
В то время Ванда дружила с некой художницей — румынкой. Я помчался в ее мастерскую, если так можно было назвать эту трущобу в Челси, двери изнутри не были заперты. На возвышении стояла Ванда — очень прямая, без шляпы — и глядела в окно, на лондонские крыши. Светлые волосы ее блестели. Онане услышала моих шагов. Я сразу же заметил в поднятой правой руке револьвер. Подкрался и больно сжал ей кисть руки; она вскрикнула, револьвер упал на пол. Я не предполагал, что глаза ее могут быть такими черными.
Она обернулась и ударила меня по лицу.
Брак не состоялся, но тем не менее Притти и Бёрнхэм не расстались. Он боготворил ее с еще большей страстностью, а она спустя какое-то время весьма сухо попросила у меня прощения. Потом, до их отъезда, мы встречались редко.
Бедному Фредди не довелось вдоволь насладиться Корнуоллом. Он умер внезапно, в тысяча девятьсот сорок пятом году, в тот день, когда было заключено перемирие. Умер от аневризма аорты. «Внезапно» — потому что не в больнице, а у себя дома, сидя в кресле. Но я думаю, что это многолетняя тоска сжала кольцом его аорту. В тот день в Пенсалосе люди танцевали на улицах. В барах пили за Сталина, Рузвельта и Черчилля. О Польше уже давно никто не говорил. Несомненно, Фредди тоже был романтиком. Но только романтизм его не был крикливым и поэтому не вызывал у меня раздражения.
Притти мне рассказывала, что в этот день он велел ей опустить шторы, поставить на стол шампанское. Они обедали при свечах, и Фредди пил за польских летчиков, за Монте-Кассино, Эль-Аламейн, Арнхем, за Варшаву, за все и всяческие битвы, в которых отличились поляки. Потом ему стало плохо, он перешел в кресло, а еще через час умер, держа в руках газету, в которой не было ни единой строчки о поляках — «вдохновении народов». Нелепый конец для дипломата и историка.
А Ванда снова меня озадачила. Сказала, что всю ночь просидит возле покойника, и настояла на своем. Мне кажется, что у нее где-то внутри запрятан аппаратик для замедления реакций. Она начинает видеть людей только тогда, когда их больше уже нет. Похороны и все дела, связанные с наследством, естественно, мне пришлось взять на себя.