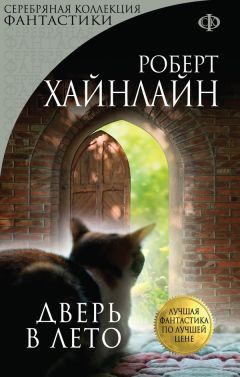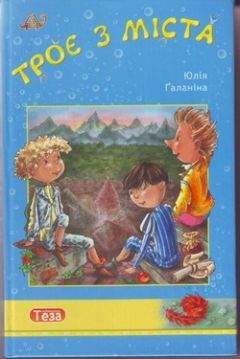Елена Арсеньева - Опальная красавица
Лисонька вестей о себе не подавала. В Нижнем ли она оставалась, воротилась ли к отцу – было неведомо, и Елизавете ничего не оставалось, кроме как размышлять о причудах своего сердца и судьбы, которые так надолго бросили ее в объятия этого страшного, странного, притягательного и отталкивающего человека – Вольного.
Елизавета всегда была даже и с собою весьма лукава и умела изыскать множество причин для оправдания своих слабостей и прегрешений, однако сейчас предпочитала не кривить душою и признать, что приникла к Вольному потому, что была отчаянно одинока, испугана; вдобавок она отыскала в его руках такую полноту страсти, которую не давали – да и не могли ей дать – ни робкий Леонтий, ни злобный Эльбек, ни добрый, бесконечно нежный Хонгор, ни яростный Сеид-Гирей, ни де Сейгаль, ловец минутных наслаждений, ни весь пропитанный ненавистью Валерьян. И только Алексей, вернее, Лех Волгарь...
И вот так всегда – о чем бы Елизавета ни думала, рано или поздно возвращалась мыслями к Алексею!
Назвать любовью то, что она испытывала к нему сейчас, было бы, наверное, не совсем точно: он умер, он ушел в мир теней, которых не волнует, не греет и не оскорбляет наша, земная, любовь или нелюбовь, и все же эта утрата несбывшегося как бы притупила в Елизавете остроту восприятия мира, отняв дерзость молодости, безоглядную веру в счастье, и она покорно приняла свое зимнее отупение, бывшее сродни тому, которое наваливается на женщину, накрывшуюся клобуком. Взрыв горя, потрясший ее в Измайлове, странным образом дал ей на время силы позаботиться о будущем своем и своей дочери, но эта вспышка лихорадочной деятельности сменилась непреходящей, стойкой тоскою, ощущением, что она потеряла человека, самого нужного душе.
А ведь она с ним и двух десятков слов не сказала! Бог ты мой, Алексей Измайлов, этот мальчик, голубоглазый и румяный, в которого влюбилась бедная, заброшенная дурнушка; Лех Волгарь – ожесточенный, стремительный, страшный, как удар сабли, которого исступленно ласкала невольница, чудом избежавшая смерти, – вот и все, что она могла вспомнить о своей любви! Откуда же эти слезы, откуда черная печаль, откуда непреходящая боль, как будто на месте сердца у нее образовалась холодная пустота, в которую Елизавете страшно было заглянуть, ибо не найти там больше клада, которым была богата жизнь?..
Даже в печали об Алексее была для Елизаветы особенная, пьянящая отрада (или отрава, против которой нет противоядия), но жизнь шла своим чередом и своими грубыми прикосновениями то и дело прерывала забытье, так что приходилось считаться с ее реалиями... даже если они были связаны с Вольным.
* * *Воровская ватага, захваченная на торговом судне, была под конвоем и в кандалах препровождена в Нижний и заключена в городском остроге. Печальное место сие было известно Елизавете: еще в прошлом году, живя на Варварке, она езживала по престольным праздникам в острог, относя туда деньги, пироги, рубашки, халаты, вязаные чулки. Это было обычным делом среди богатых, да и не очень богатых жительниц Нижнего, всячески поощрялось церковью, как богоугодное милосердие; кроме того, Елизавете однажды привелось передать подпилок в куличе для одного из ватажников Вольного, сделавшись таким образом соучастницей его побега. Ее это не больно заботило; однако воспоминание о благотворительных поездках оказалось весьма своевременным: ведь среди схваченных разбойников был Данила, судьба коего всегда тревожила Елизавету. Их соединяли общие страдания, перенесенные от рук «лютой барыни», а потому графиня хоть чем-то хотела облегчить участь бывшего парикмахера.
Но визит Елизаветы в тюрьму принес ей мало радости, а Даниле – и того меньше. Ведь он больше не был ее крепостным – графиня в свое время с охотою отпустила его на свободу, – а потому она утратила свои права на его жизнь и смерть, на его судьбу и ничем не могла порадеть Даниле, кроме как промыть раны его и других несчастных, сидевших с ним в одной камере. Руки и ноги их были растерты кандалами чуть ли не до костей, когда вели их на сворке, но Елизавета и Татьяна обшили железы толстыми холстинами и перевязали язвы. Милосердие сие было опасным для чести графини Строиловой, ибо ее могли опознать некоторые ватажники, однако бог миловал: то ли не признал никто в богато разодетой даме ту девчонку, переодетую в мужское платье, которую видели в Макарьеве; то ли положили зарок своих не выдавать, как никто не выдавал тех тайных убежищ, где мог схорониться их загнанный, затравленный атаман. Елизавета даже от себя самой скрывала, что одной из причин, поспешно приведших ее в острог, были упорные слухи: мол, Вольной тоже попался, – и она не поняла, облегчение или разочарование испытала, узнав, что это лишь пустая болтовня.
Выйдя на крыльцо острога и с трудом пробираясь сквозь толпу баб с детишками, пришедших наведать своих или хоть передать небольшой гостинчик, Елизавета торопливо совала в протянутые руки медяки, стараясь не глядеть по сторонам, чтоб не рвать душу зрелищем исстрадавшихся лиц (вполне хватило и того, на что нагляделась в остроге!), но вдруг мелькнули знакомые голубенькие глаза, всклокоченные белобрысые кудлы...
Улька! Улька – растрепанная, зареванная, в съехавшем на затылок платке и обтерханном сарафане, на который, несмотря на жару, накинут рваный шубный кафтанишко явно с чужого плеча. Ну а на руках у нее заходился криком младенец, запеленутый в такую ветхую, грязную ряднинку, что половик на пороге иной избы и то краше.
Увидев ее, Елизавета невольно ахнула, но Улька, пригнувшись, тут же скрылась в толпе, и, сколько ни искали они с Татьяною, девчонки и след простыл. Выведать, где она обитает, тоже не удалось, и Елизавета вернулась в Любавино, так ничего и не узнав о своей бывшей горничной, скрытно терзаемая непрошеной жалостью к ней. Впрочем, Елизавета уже не раз замечала, что стоит начать о каком-то человеке напряженно, упорно думать, как вести о нем так или иначе до тебя доходят. Здесь, правда, обошлось без вестей: Улька сама явилась в усадьбу.
* * *Потом Елизавета не раз думала, что, если бы не глупая услужливость дворовой девки Наташки (русский человек всегда норовит по доброте душевной оказать другому медвежью услугу!), многое в ее жизни сложилось бы иначе...
Начать с того, что Ульке нипочем не удалось бы проскользнуть мимо Татьяны: словно чуя беду, старая цыганка неусыпно оберегала свою «деточку» от посетителей, дотошно и подробно выспрашивая каждого об его надобности и почти всех переправляя к Елизару Ильичу, который сделался еще более тихим, робким и неприметным, крутился с утра до ночи по имению, а на графиню почти не поднимал глаз, словно окончательно смирился со своей безнадежной участью и решил более не причинять себе страданий созерцанием ее недоступной красоты. Наташка, как и все дворовые, знала только, что Ульку графиня прогнала за нагулянного младенца: это объяснение щадило самолюбие Елизаветы, – но, уповая на добросердечие госпожи и видя отчаяние старой подружки, решилась все же помочь ей и тайно провести к барыне. Вот так и получилось, что поздним вечером, когда Елизавета уже воротилась с верховой прогулки, проведала спящую Машеньку, наказав Авдотье не забыть на рассвете посадить девочку на горшок, даже если та и не будет проситься, потом разделась, намылась и, сидя перед зеркалом, переплетала на ночь косу, за дверью вдруг что-то зашуршало, послышался взволнованный шепот – и появилась Наташка: прямо с порога ухнула в ноги барыне, увлекая за собою еще какую-то женщину, но та вырвалась и осталась стоять.