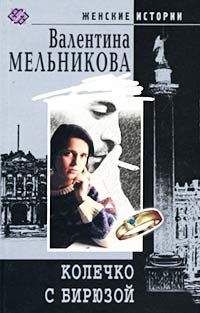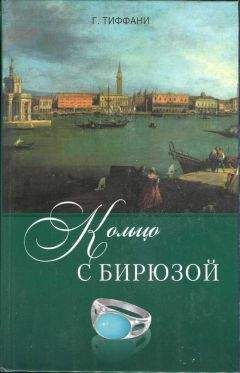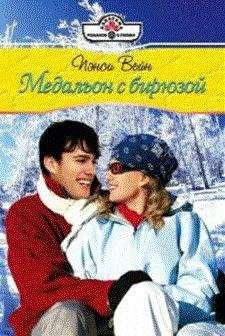Перстенёк с бирюзой (СИ) - Шубникова Лариса
Глава 19
– Никеша, боярышню не замай, – шептал Норов, пока шли к реке. – Углядишь, что озябла иль устала, домой ее гони.
– Да что ж я, изувер? – Никеша поторапливался, семенил за боярином, оглядываясь на Настасью и Зинку, что топотала позади всех по извилистой тропе с пригорка.
– Не изувер, – согласился Вадим. – Ты похлеще будешь. Дай догадаюсь, сей миг усядешься на тюк и только тебя и видели. Прикажешь боярышне скакать? Товар считать и мыт накидывать? Никешка, увижу, ухи отрежу.
– Тьфу, заноза ты, Вадька, – ругался писарь. – Куда ей скакать-то? Одни волоса и остались. И как так девка истаяла? Ты ли, что ли постарался? Запугал красавицу нашу, насел и маешь.
Вадим смолчал, слов не сыскал. А и что ответить, если он и есть изувер? Прилип к девице смолой, запугал, еще и руки распускал, как подлеток нещупаный.
Шел Норов, вздыхал, оглядывался на Настю. Та послушно шагала за писарем, смотрела по сторонам и брови изгибала. Вадим не разумел, чему удивляется. Простору, непривычному после тесноты крепости, или зелени, что густо наросла за последние дни на деревах. Но рад был уже тому, что бледности на щеках поубавилось, румянец слабый наполз на дорогое лицо, украсил и ободрил.
– Дедушка, – Настасьин голосок долетел до Вадима, – а что делать надобно?
– Да ты не трепыхайся, дело простое, – писарь оживился и поравнялся с боярышней. – С ладей товар носить стану на подводы. Так надо счесть сколь. С бочки деньга, с тюка – половинка. Это мыт за проход по Норовским землям. Все записать, а ладейщикам берёсту с боярской прикладной*. Колотушку* я прихватил.
– А сколь ладей? – Настя семенила рядом с писарем, торопилась. – А прикладная какая? А колотушка большая? А кто приплывет? Деда, а где ждать станем?
Норов вздохнул легче: защебетала кудрявая. Вилась вьюнком вокруг зловредного писаря, выпытывала. Вадим не утерпел, обернулся на девушку: глаза бирюзовые по плошке, брови изогнуты, а кудряхи потешно подпрыгивают и на легком ветерке колышутся.
– Настасья Петровна, ты чего застрекотала-то? – дедок радовался. – Вот колотуха, а вот прикладная. Не оброни, инако боярин руки повыдергает.
Норов взялся за опояску и остановился:
– Никеша, будет врать. Разговорился, не уймешь, – не хотел Вадим, чтоб Настя пугалась его лишний раз.
Дедок открыл рот ответить, а Настя – вот чудо – вперед него влезла:
– Что ты, деда, разве боярин так сделает? – глянула на Норова, но быстро потупилась. – Он бы никогда...
Вадиму сей миг захотелось и взвыть, и спеть разом. А как иначе? Его же кудрявая защищала, но перед ним же и виноватилась. Пока раздумывал, что лучше – песни орать или завывать – зловредный писарь рот открыл:
– Оно конечно, Вадим наш Алексеич ангел с крылами. Аж светится от безгрешия, – подтолкнул локтем Настю в бок. – И зачем ему мечи? Давно уж пора святостью ворога крушить.
Зинка, что шла позади всех, не сдержалась и фыркнула смешливо, Настя замерла, а миг спустя, приметил Вадим легкую улыбку на ее губах, будто отсвет той, что сияла на милом личике раньше.
Норову если и хотелось дедка унять, то вмиг и раздумалось: пусть веселит боярышню, а с него, Вадима, не убудет.
– Все верно, Настасья Петровна, не изувер я, – Норов напустил на чело раздумья. – Знаешь, с чего ворог обходит стороной Порубежное? Думаешь, сотни ратной боится? Никеша ужас наводит на лиходеев.
Настя смотрела недоверчиво, но в том увидал Вадим и толику любопытства.
– Не знала? Вся округа боится писаревой колотушки. Говорят, стукнет, так сразу семеро замертво падают. Куда мне с мечами до дедова оружия, – Норов брови насупил, кивал.
Настя улыбку спрятала, прижала к груди колотуху и отошла от дедка, мол, боюсь. Норов отвернулся, не желая хохотать, а вот Зинка прыснула и смеялась до того громко, что из ближних кустов птахи выпорхнули.
– Расколыхалась, не уймешь, – зловредный поругивался на Зинку. – Будет грохотать-то. А ты, Настасья Петровна, боярина поменьше слушай. Язык, что помело.
Пока дедок ворчал, дорога привела к берегу. Вокруг причала стояли десятка два ратных и все, как один, глядели на речной простор, где вдалеке показалась ладья.
Вадиму и смотреть не надо, чтоб понять – северяне. Те завсегда приходили первыми по высокой воде, и уходили последними перед зимой. Не боялись ни льдов, ни холодов, ни иных напастей.
Средь ратных увидал Норов Бориску и поманил к себе. Тот подошел, поклонился и сразу обернулся к Настасье:
– Здрава будь, боярышня, – улыбался так, как Норов за ним и не помнил. – Давно не встречал тебя, говорили, захворала. Все ли хорошо?
Настя шагнула к боярскому ближнику и подняла к нему личико:
– Здрав будь, Борис Фролыч. Благодарствуй на добром слове, – и улыбнулась светло.
Вадим прищурился, глядя на чудо чудное: Бориска ощерился улыбкой, что пес. Глядел до того добро, что едва слезы на глазах не вышиб.
– Ветрено нынче, ты ступай пониже к реке. На пригорке озябнешь. Воям скажу, чтоб сыскали тебе на чем присесть. Ты, никак, грамоте обучена? – указал на связку берёсты в руках у боярышни.
– Обучена, – Настя кивнула. – Ты не хлопочи, иных дел, должно быть, немало.
– Что ты, мне в радость, – Борис обернулся и высвистал.
К нему метнулись вои, выслушали указ, да сами заулыбались, глядя на боярышню, что промеж ражих парней гляделась птичкой-невеличкой.
Норов зубы стиснул так, что едва не раскрошил. И было с чего! Парни глядели на Настю: морды довольные, улыбки белозубые. А та, как назло, не разумела – с чего радостные. Сама, видно, не понимала красы своей, которую не укрыли ни тоска, ни беда.
– Не затопчите, – рыкнул Норов, не удержавшись. – Ступайте, чай, северяне сами себя не встретят. Борис, очнись, ты-то чего застрял?
Вои улыбки смахнули, да пошли, оглядываясь. Норов остался злобу унимать, да смотреть на Настю, что прижала крепче к груди берёсты свои и колотуху, отданную писарем.
– Никеша, прилип? – досталось и деду от Норова. – Ступай, сказал. И ты не стой, – прикрикнул и на Зинку.
Те потоптались боязливо и потянулись к бережку, зеленевшему первой весенней травой. Вослед и Настя двинулась.
– Погоди, – Вадим боярышню не пустил, удержал за рукав. – Эдак ратные и воевать перестанут. Не ворожи на них, озлюсь, – выговаривал.
Настя застыла, широко распахнув глаза. Видно, силилась понять, о чем Норов ей толкует.
– Вадим Алексеич, так я... – ресницами хлопала, убирала с лица кудряхи, что трепал ветер.
– Так ты, – Норов унимал себя, да без толку. – Настя, не гляди на них. Ведь мозги начисто поотшибает. Напрасно я тебя сюда привел. Лучше б в девичьей запер.
Она голову склонила, промолчала. Вадим приметил, как дрожат руки, как крепко цепляются за колотушку. Сей миг себя и укорил. А как иначе? Седмицу назад насилу за косу поймал, воли не дал, а тут еще и ругает, и грозится запереть в дому.
Вздохнул и принялся виниться:
– Не тебя, ругаю, кудрявая. Себя корю за дурость, – сказал, как на духу. – Знал ведь, что заглядываться на тебя станут.
Боярышня и вовсе дышать перестала, голову подняла и посмотрела на Норова:
– Боярин, ты шутишь со мной? – словам его не верила, удивлялась.
– Какие тут шутки, – любовался кудрявой. – Сам засмотрелся. Давно не видел, в ложне пряталась. Настя, любая, не доводи до греха. Увижу, что парням улыбки кидаешь, головы всем поотрубаю. Их пожалей и меня вместе с ними, – высказал и ответа дождался...
Настасья выронила из рук все, что крепко к себе прижимала, и шагнула близко:
– Вадим Алексеич, прости ты меня, – говорила, торопилась. – Знаю, что тебя обидела и себя опозорила. За что ж ты меня холишь? Отчего не накажешь? Почему тётеньке не пожаловался? Меня бережешь? Зачем слова такие мне говоришь? – слезы показались на глазах.
– Какие есть, такие и говорю, – Норов заметался. – Настя, скажи, чего тебе надо? Чем дом мой тебе плох? Про себя знаю, что не подарок. Не красавец, на свистульке играть не умею, да и словами кидаться попусту не обучен... – не договорил.