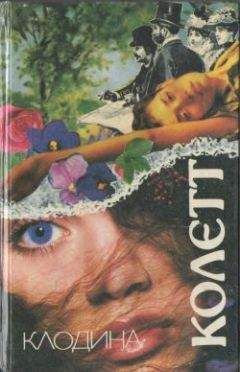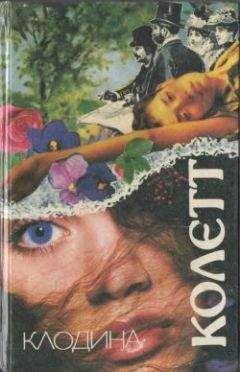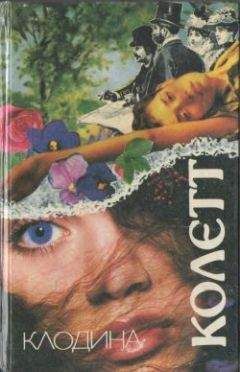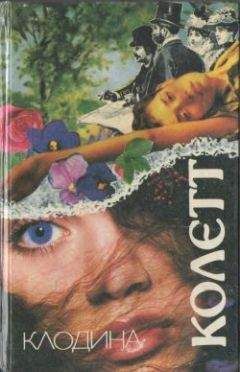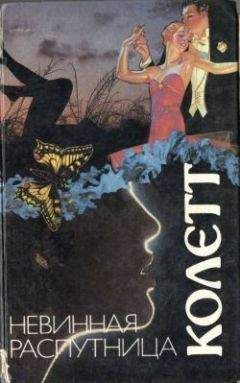Сидони-Габриель Колетт - Рождение дня
Достаточно мне перестать писать всего на одну неделю, как моя рука от письма отвыкает. Вот уже дней восемь или десять – как раз со времени отъезда Вьяля – у меня много работы… правильнее будет написать: я много работала. Я углубила, вычистила проходящую посредине канаву, которая отводит лишние зимние воды. «Гля, сейчас же не сезон!» – упрекала меня Дивина. Надо упомянуть и об утомительной прополке в твёрдой земле, и о мытье оплетённых стеклянных бутылей. Кроме того, я смазала маслом, начистила наждаком ножницы для сбора винограда. Три дня сильной жары продержали нас у моря и в море, позволив насладиться счастьем в его короткой, тяжёлой, свежей зыби. Едва высохнув, наши руки и ноги покрывались инеем мелкой соли. Однако, испытывая уколы солнца и покоряясь ему, мы чувствуем, что целится оно в нас уже из других точек неба. На заре теперь уже не эвкалипт, стоящий перед моим окном, делит надвое первый сегмент выходящего из моря солнца, а соседняя с эвкалиптом сосна. Сколько нас таких, наблюдающих за появлением дня? Это старение светила, которое каждое утро укорачивает свой ход, по-прежнему несёт в себе тайну. А моим парижским друзьям и тем парижанам, которые моими друзьями не являются, хватает и того, что закат надолго заполняет небо, занимает и увенчивает вторую половину дня…
Нужно ли здесь говорить о двух экскурсиях, в которые мы веселой оравой с удовольствием отправлялись и откуда с ещё большим удовольствием возвращались? Я люблю старые провансальские деревни, которые облегают вершины своих холмов. Развалины там сухие, здоровые, лишённые травы и зелёной плесени, и только плющевидная герань с розовыми цветами свешивается из чёрного зияющего уха какой-нибудь башни. Однако летом я быстро устаю, когда углубляюсь в сушу; очень скоро я начинаю тосковать по морю, по негибкому горизонтальному шву, соединяющему голубое с голубым…
Вот, мне кажется, и всё. Вы находите, что этого мало? Возможно, вы не ошибаетесь. Возможно, я не в состоянии нарисовать вам то, что и сама не различаю отчётливо. Иногда я смешиваю тишину и громкий внутренний шорох, усталость и блаженство, а сожаление почти всегда вырывает у меня улыбку. Со времени отъезда Вьяля я старательно упражняюсь в безмятежности и поставляю для неё, естественно, только материалы благородного происхождения, одни из которых беру в совсем недавнем прошлом, другие – в моём настоящем, которое просветляет, а лучшие – я их выпрашиваю у тебя, моя самая дорогая. Так что у моей безмятежности, сооружённой без участия стихийного гения, выражение лица получается не то чтобы неестественное, но оно выдаёт усилие, как те произведения, куда вкладывают слишком много рассудка. Я закричала бы ей: «Ну же! Напейся! Спотыкайся!», если бы была уверена, что опьянение будет весёлым. Когда Вьяль был здесь, два лета подряд, его присутствие… Нет, разговор о нём у меня не получится. Заботу похвалить Вьяля. которого ты не знала, я поручаю тебе, моя деликатная спутница.
«Я с тобой расстаюсь, чтобы пойти поиграть в шахматы с моим маленьким торговцем шерстью.
Ты его знаешь. Это тот маленький, толстый, жалкий человек, который весь день уныло торгует пуговицами и шерстью для штопки и не говорит ни слова. Но – о удивление – он искусно играет в шахматы! Мы играем в задней комнате его лавчонки, где есть печка, кресло, которое он пододвигает ко мне, а на окне, которое выходит во дворик, два горшка очень красивой герани, той непостижимой герани, которая встречается в бедных жилищах и у дежурных по переезду. Мне никогда не удавалось вырастить такие же, хотя я даю им и воздух, и чистую воду, выполняю все их капризы. Так вот, я очень часто хожу играть к моему маленькому торговцу шерстью. А он преданно меня ждёт. Он каждый раз меня спрашивает, хочу ли я чашку чая, потому что я «дама», а чай является напитком изысканным. Мы играем, а я думаю о том, что живёт в заточении в нём, маленьком толстом человеке. Кто и когда узнает это? Я становлюсь любопытной. Однако смиряюсь с тем, что никогда этого не узнаю, и нахожу своё утешение в том, что оно есть и знаю о нём лишь я одна».
Вкус, способность находить спрятанное сокровище… Будучи искательницей подземных родников, она сразу направлялась к тому, что обладает лишь потаённым блеском, к дремлющим рудным жилам, к сердцам, у которых отняли все шансы расцвести. Она прислушивалась к всхлипыванию струи, к долгому подземному приливу, к вздоху…
Уж она бы не спросила так прямолинейно: «Вьяль, так ты, значит, испытываешь ко мне привязанность?» Подобные слова портят всё… Это что, раскаяние? Этот заурядный юноша?.. В любви нет никаких каст. Разве спрашивают какого-нибудь героя: «Маленький торговец шерстью, вы меня любите?» Кто же подгоняет ход всех событий, с такой поспешностью добиваясь их свершения? Когда маленькой девочкой я вставала часов в семь, восхищаясь тем, что солнце находится низко, что ласточки ещё сидят рядочком на кровельном жёлобе и что ореховое дерево подобрало под себя свою ледяную тень, то слышала, как моя мать кричит: «Семь часов! Боже мой, как уже поздно!» Неужели я так никогда и не стану вровень с ней? Она парит свободно и высоко, говорит о постоянной, редкостной любви: «Какое легкомыслие!», а потом не изволит объясниться поподробнее. А я – понимай. Я делаю что могу. Уже давно бы пора подступиться к ней иначе, чем через мою привязанность к трудам, лишённым и срочности, и величия, пора бы преодолеть то, что мы, непочтительные дети, когда-то называли «культом голубой кастрюльки». Ей было бы недостаточно – и мне тоже – осознавать, что иначе я созерцаю и ласкаю всё, что проходит через мои руки. Бывают дни, когда что-то выталкивает меня прочь из самой себя, чтобы я могла радушно принять тех, кто, уступив мне своё место на земле, казалось бы, навсегда погрузились в смерть. Накатывает волна ярости, вздымающаяся во мне и управляющая мной подобно чувственному наслаждению: вот мой отец, его протянутая к клинкам белая рука итальянца, сжимающая кинжал с пружиной, который его никогда не покидал. И опять мой отец, и ревность, которая делала меня когда-то такой несносной… След в след я послушно повторяю те навеки остановившиеся шаги, которыми отмечен путь из сада в погреб, из погреба к насосу, от насоса к большому креслу, заваленному подушками, растрёпанными книгами, газетами. На этом истоптанном пути, освещённом косым и низким лучом, первым дневным лучом, я надеюсь понять, почему маленькому торговцу шерстью – я хочу сказать: Вьялю, но ведь это всё тот же идеальный любовник – никогда не следует задавать одного вопроса и почему истинное имя любви, которая раздвигает и преодолевает всё на своём пути, звучит как «легкомыслие».