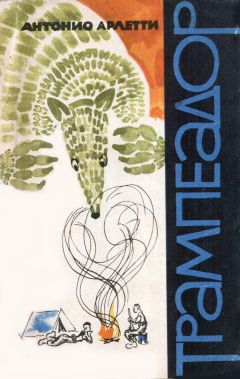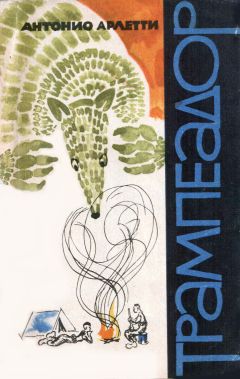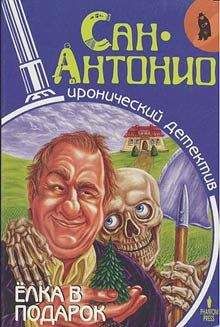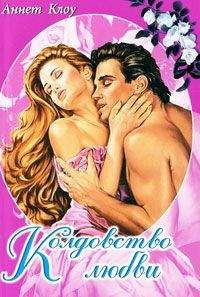Елена Рождественская - Мелодия счастья
— Эта девица иметь много талантов! — коряво по-русски, но зато так громко, чтобы все услышали, провозгласил Антонио.
Екатерина улыбнулась:
— Вот и маэстро хвалит. Сама-то что молчишь? Маэстро сказывал, что ты по-французски и по-итальянски беседу вести можешь, а ты, кажется, и русский забыла?
Лиза беспомощно подняла зардевшееся лицо к императрице, та перевела взор на Голобородко:
— Чего ж она молчит, князь? Может, тебя испугалась, ты ведь у меня самый главный начальник над театрами?
И Голобородко нашелся:
— Это она от вашего величия, матушка. Видать язычок проглотила. А ну попросим ее спеть, может, язычок-то и вернется!
И князь беззастенчиво тронул девушку за подбородок.
О, петь Лиза могла всегда! Ее звучный, сильный голос наполнил залу, вознесся к потолку. Все зааплодировали. И сильнее всех композитор Меризи.
— Как тебя зовут, милая? — растроганно осведомилась Екатерина.
— Лиза! — прошептала юная певица и протянула государыне афишу.
Та, прочтя каллиграфию, недовольно повернулась к Голобородко:
— Ты у меня за театрами надзираешь — ты и растолкуй: отчего в афише только имя стоит: «Лизавета». Почему нет фамилии? Это же не порядок!
Князь вытер вмиг вспотевший лоб:
— Так ведь девица — сирота, неведомо чья. Одни говорили, конюха Яковлева внучка, другие судачили, незаконное чадо поваренка Федорова. Одно слово — подкидыш. Нашли ее на набережной Невы. В пеленках ни монограмм, ни письмеца не было. Померла б сиротка, если б не высочайшая милость вашего величества. Вы тогда распорядились ее к вашей кухарке определить. У той как раз мальчишка только народился, вот она второго младенца и выкормила. А уж потом девочку отдали в театральную школу. Все по вашим указам, матушка!
И тут Лиза обрела дар речи.
— Матушка! — закричала она и рухнула на колени перед этой доброй, глядящей на нее с улыбкой полной женщиной. — Вы — моя матушка! Другой не знаю!
Екатерина подняла девушку:
— Раз я тебе мать, я и дам фамилию! Коли тебя на невской набережной сыскали — будь отныне Невская. Елизавета Невская — отлично звучит, и на афише будет выглядеть красиво. Раз сам маэстро Меризи говорит, что у тебя талант, — учись. Только, как вон та девица, под моим портретом не вздумай петь!
И императрица, засмеявшись, показала рукой в сторону Барановой. Государыня вообще почему-то была смешлива в тот вечер.
— А тебе, князь, — Екатерина повернулась к Голобородко, — повелеваю, как начальству, проследить за успехами девицы Невской. Отныне она — моя крестница!
Голобородко кисло скосил глаза на свою пассию Баранову, но, повернувшись к Лизе, изрек:
— С величайшей любовью, матушка!
Его узенькие глазки сладенько блеснули из-под оплывших жиром бровок. Ох как не понравился Лизе этот взгляд…
2
Лиза обвела восхищенным взглядом свою квартирку. Конечно, кто-то скажет, что обе комнатки малы и бедно обставлены. Ну и что?! Зато они — свои! Да у Лизы отродясь собственного угла не было. Пока росла в кухаркиной семье, спала в каморке за кухней, где ютилась не только кухарка с сыном, но еще и посудомойка с дочкой. Все трое ребятишек спали на одной широкой лавке за печкой. Правда, Лиза и то за счастье почитала — видела ведь на улице нищих детей-попрошаек.
Куда хуже стало, когда забрали ее с кухни в театральную школу. Вот где холод да голод! В дортуарах, где спали по двадцать девочек разного возраста, топили до того плохо, что, считай, и вовсе нет. Даже вода в кадках к утру замерзала. Чтобы попить или умыться приходилось лед молотком разбивать. И пили, и умывались с ледяной крошкой. Впрочем, старшие девочки переносили все это куда легче малышни. А малышни было всего-то трое: семилетние Дуня Волкова да Таня Симонова и шестилетняя Лиза-подкидыш. Все три девочки часто болели, тогда и наступало облегчение, когда девочек отправляли в лазарет. Там царствовал врач-немец, герр Шульц. Он вечно кричал на воспитанниц, бранился, и все по-немецки. Девочки не понимали, чего он от них хочет, за что ругает. И тогда немец кричал еще громче, но и только. Да-да, этот вечно ругающийся немец на самом-то деле оказался куда добрее их воспитательницы, мадам Серо. Та вечно била девочек, за любую шалость и провинность оставляла без еды, ставила в угол на горох. Этого Лиза боялась больше всего. Наказанная девочка должна была снять чулки и встать голыми коленками на рассыпанный по полу горох. Уже через пять минут стоять становилось невыносимо больно. Девочки плакали, умоляя мадам простить и прервать наказание. Но мадам почти всегда оставалась неумолима. Очень скоро Лиза поняла, что мадам Серо нравится стоять рядом с наказанной и слушать ее вопли. И тогда Лиза стала делать по-другому. Она крепилась изо всех сил — кусала себе губы до крови, впивалась ногтями в ладонь, но не плакала и не просила прощенья. И — о чудо! Поняв, что от строптивого подкидыша не дождешься ни крика от боли, ни униженных просьб, мадам Серо взвилась сама:
— Подкидыш неблагодарный! Ни слез, ни стона… Пошла вон!
И мадам выгнала Лизу из комнатушки, предназначенной для наказаний. И, что самое удивительное, никогда больше к Лизе не придиралась, а на горох теперь ставила других воспитанниц. Хотя до сих пор Лизе иногда снится, что она проходит по темному коридору мимо двери комнаты для наказаний, а оттуда слышатся крики и плач от боли и унижения.
А вот шумный герр Шульц никогда не наказывал тех, кто попадал в его лазарет. Даже мальчики, воспитывающиеся в той же театральной школе, иногда тайно увидевшись с девочками (а как еще — ведь жили они совершенно раздельно и если встречались на общих занятиях, то под пристальным надзором педагогов), рассказывали по секрету, что доктор-немец — добрейшая душа. Ведь это он однажды вступился за наказанного мальчика, которого воспитатель выпорол до крови. Тогда герр Шульц пошел куда-то наверх, к самому театральному начальству, и говорил что-то о членовредительстве, которое недопустимо над учениками школы ее величества. Мол, ученики — собственность самой императрицы, и негоже эту собственность обижать и портить. И, говорят, с тех пор государыня собственным указом запретила сечь учеников до крови.
На Лизу же немецкий доктор вообще кричал редко. Зато каждый день, который она проводила в лазарете, наказывал служительнице приносить девочке по две порции еды. Поев и отогревшись (в лазарете топили куда лучше, чем в дортуарах), Лиза переставала кашлять и хандрить. Часто она попадала в лазарет вместе со своими подружками — Дуней Волковой и Таней Симоновой. Обычно на третий день их лихорадка проходила, и герр Шульц, как всегда недовольно сопя, отправлял их обратно в классы. А однажды Лиза услышала, как он, коверкая русские слова, кричал, закрыв за ними дверь: