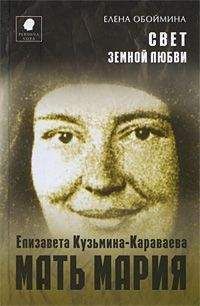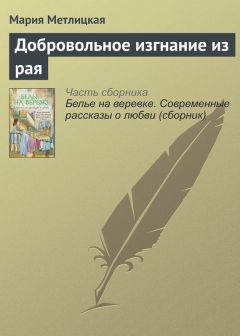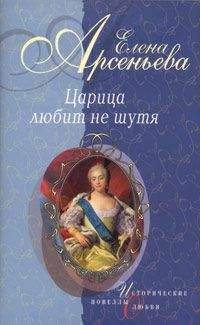Елена Арсеньева - Берег очарованный (Елизавета Кузьмина-Караваева, мать Мария)
Часто видели мать Марию и на знаменитом центральном рынке «Чрево Парижа». Она чуть не каждый день вставала ни свет ни заря и ехала туда — там ее уже хорошо знали и бесплатно давали непроданные овощи, картошку, рыбу, иногда и мяса немного, и она это все сама тащила на рю Лурмель, в дом 77, где еще с довоенных времен, с 1938 года, была ею устроена столовая и общежитие движения «Православное дело». Она сама варила обед, сама кормила обездоленных.
«К плоти брата своего у человека должно быть более внимательное отношение, чем к своей собственной плоти, — писала тогда мать Мария, смутно сознавая, что повторяет чужую мысль. Не это ли же самое некогда пытался втолковать девочке Лизе бывший обер-прокурор Синода Победоносцев? — Христианская любовь учит нас давать брату не только дары духовные, но и дары материальные. Мы должны дать ему и нашу последнюю рубашку, и наш последний кусок 1еба. Тут одинаково оправданны и нужны как личное милосердие, так и самая широкая социальная работа. Любовь к человеку требует от нас в этой области одного: аскетического служения его материальным нуждам, внимательной и ответственной работы, трезвого и несентиментального учета и своих сил, и его подлинной пользы».
Дом на рю Лурмель, это прибежище для пропадающих от безденежья, от одиночества на чужбине русских бедолаг, для шатающихся бездомных, получил среди русских эмигрантов прозвище «Шаталова пустынь».
Посетители здесь появлялись сутки напролет.
Вот умер один шофер, его вдове негде было жить. Она явилась на улицу Лурмель, однако свободной кровати не оказалось. Мать Мария делила с ней свою постель и говорила ночи напролет, успокаивала. Такие бессонные ночи ее не истощали, наоборот, она говорила:
— Мне сейчас удивительно хорошо. Не чувствую себя — большая легкость. Хорошо бы отдать себя совсем, чтобы ничего не осталось. Счастливых людей нет — все несчастные, и всех жалко. О, как жалко!
Свою неуемную энергию она сравнивала с неразменным рублем: сколько ни старайся, всегда получаешь рубль сдачи: «Мир думает — если я отдал свою любовь, то на такое количество любви стал беднее, а уж если я отдал свою душу, то я окончательно разорился, и нечего мне больше спасать. Но законы духовной жизни в этой области прямо противоположны законам материальным. По ним все отданное духовное богатство не только, как неразменный рубль, возвращается дающему, но нарастает и крепнет. Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот богатеет».
С давних лет ей всегда проще было выражать свои мысли не прозой, а стихами. Стихи были верны ей и теперь, венчали те мысли, которые не покидали ее ни днем, ни ночью:
Искала я таинственное племя,
Тех, что средь ночи остаются зрячи,
Что в жизни отменили срок и время,
Умеют радоваться в плаче.
Искала я мечтателей, пророков,
Всегда стоящих у небесных лестниц,
И зрящих знаки недоступных сроков,
Поющих недоступные нам песни.
И находила нищих, буйных, сирых,
Упившихся, унылых, непотребных,
Заблудшихся на всех дорогах мира,
Бездомных, голых и бесхлебных…
К ней часто приходила Нина Кривошеина — жена одного из устроителей и столовой, и Комитета помощи русским эмигрантам (а во время войны главы русского Сопротивления во Франции), Игоря Кривошеинаnote 1. Впечатления о тех встречах Нина заносила в свои записки.
«Мы садились — она на какое-то старое кресло, а я на табуретку; комната имела неправильную форму, в стене видна была лестница, висели иконы, с потолка на веревках свисали косы лука, сушеные травы, а на столике, напротив монахини, лежали только что высушенные ягоды или овощи — черника, вишни, морковка. Мать Мария считала, что несчастных людей, не нашедших себе места в эмиграции, надо сперва напоить и накормить, дать им чистую одежду и т.д. Эти сушенья входили в ее программу: когда уж ничего не было (а это в военное время часто случалось), то она пускала в ход свои сушенья, и хоть чем-то да можно было в столовой накормить когда двадцать, а когда и сорок человек.
Она была всегда оптимисткой, считала, что все обязательно устроится и что нельзя никому отказывать в помощи, кто бы ни пришел. Она отодвигала со лба косынку, так что были видны на пробор причесанные волосы, и закуривала. Курила она много, хотя на людях — избегала; то, что она курила при мне, как бы сразу придавало моим визитам в ее комнату простой тон — казалось, что мы знакомы давно и даже близко.
О чем она со мной беседовала? О текущих делах, о войне — все было так тревожно, мы все болели душой за Россию. Заметив, что я все рассматриваю ее сушенья, она как-то спросила меня, сушу ли я тоже овощи и ягоды, как она. Я ответила, что не умею, да мне и в голову не приходило… Тогда она подробнейшим образом мне объяснила, как это делается, и прибавила: «Начинайте сразу, увидите, как приятно будет, если зимой сварите сыну кисель или компот». Вот так сидели мы, и вроде ничего особенного или поучительного не было, но она, конечно, знала, что я отношусь к ней с величайшим уважением. Я была у ней в ее каморке раза три-четыре — и вот как-то, пожалуй уж под конец, я сидела и слушала ее — как раз про сушение — и вдруг что-то вроде шока, и я во мгновение ощутила, что со мной говорит святая, удивительно, как это я до сих пор не поняла!.. А вот в памяти QJ этих минут осталось только ее лицо — лицо немолодой женщины, несколько полное, но прекрасный овал, и сияющие сквозь дешевенькие металлические очки, незабываемые глаза».
Прежде, до войны, работа в Комитете была просто актом милосердия, служения Богу и заботы о малых сих. Однако с тех пор, как фашисты оккупировали Францию и объявили вне закона часть населения этой страны — немалую часть! — работа матери Марии и всех остальных стала именно актом Сопротивления. Сопротивления, сопряженного с постоянной опасностью для жизни…
Наконец раздался звонок, послышался негромкий разговор в передней.
Лиза встрепенулась: кажется, она дождалась-таки! Кажется, вернулся Блок! Сейчас она снова увидит это незабываемое лицо…
И вот он появился: в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете, который она видела в его книжке. Очень тихий, очень застенчивый.
Лиза, приготовившая целую речь, теперь не знала, с чего начать. Блок ждал, не спрашивал, зачем она пришла. Ей было мучительно стыдно и страшно: в конце концов, она еще девочка, и он может принять ее не всерьез. (Что ж, она была права: ведь в это время Лизе было всего пятнадцать, а Блоку уже (!!!) двадцать восемь.)
Наконец Лиза собралась с духом и выпалила все, что ее заботило, но… умудрившись ни слова не сказать о главном — о своей любви: