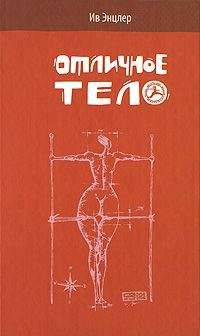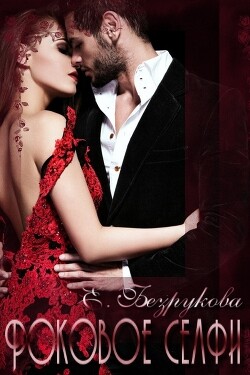Яд вожделения - Арсеньева Елена
– Эка сколь вылакал, питух чертов! – и, подскочив к распахнутому окошку, проворно вылила обе жидкости прямо в сад.
«Батюшки! Теперь чертополох выше крыши встанет!» – мелькнула у Алены мысль, а потом она погрузилась в состояние полной оторопелости.
Виноградная водка, и мед, и шкалик петушиной крови, заморский корень сельдерей, в прах истолченные дынные семечки, сырые куриные желтки, а главное – с таким трудом добытая ослиная бухарская моча, от соприкосновения с прочими составляющими утратившая свое нечеловеческое зловоние и придающая напитку загадочную желтизну – и основную силу! А в другой посудине были настоянные на водке кленовые листья: Алена все окрестные рощи облазила, выискивая совершенно одинаковые по цвету и рисунку, ведь только такие листья обретали целительную силу. И вот теперь все эти тщательно сваренные, заботливо взлелеянные зелья, от одного созерцания которых Катюшка исполнялась самых радужных надежд, выплеснуты за окошко – и кем?! Самой же Катюшкою!
Спятила она, что ли? Или, господи спаси и сохрани, Фриц о чем-то проведал? Но как он мог проведать, если сама Катюшка не проболталась? Да, конечно, она где-то что-то сболтнула, это дошло до Фрица, тот исполнился гневом и теперь небось летит сюда со всех ног, жаждая уничтожить ту, которая посмела опаивать родовитого саксонского рыцаря какой-то отравою. А Катюшка, стало быть, спешит уничтожить доказательства Аленина очередного лиходейства… Ох, удастся ли им отбрехаться от разъяренного немчина, или Алена вылетит прочь из этого уютного дома, где ей впервые за последнее время было так хорошо, так спокойно, так надежно?
Катюшка между тем, истратив зелье, не успокоилась: металась из угла в угол, тиская руки, и брови ее были сведены от мучительного раздумья – непривычнейшего состояния!
– Да что приключилось-то? – еле живая от тревоги и неизвестности, простонала Алена. – Фриц обо всем догадался?
– Где ему! – фыркнула Катюшка пренебрежительно. – Небось ослиной мочи упившись, поглупел, вовсе ослом сделался!
Алена вытаращила глаза. Это было что-то новое… Катюшка всегда с насмешкою относилась к Фрицу и даже называла его подчас «мой дурачок», что, несомненно, немало соответствовало истине, однако таким ядом ее слова никогда не сочились.
Катюшка внезапно прервала свое беганье из угла в угол и обеспокоенно спросила:
– Как думаешь, довольно уже он выпил, чтобы оздороветь?
– Откуда мне знать? – ошарашенно пожала плечами Алена. – Ты с ним спишь, не я!
– Вот именно – сплю! Не любострастничаю, а сплю! – В голосе Катюшки зазвенели слезы.
– Да полно, – ласково взяла ее за руку Алена. – Поверь мне: не нынче, так завтра он исцелится. Не может не исцелиться! Это зелье мертвеца заставит от похоти плясать. Вся суть в том, сколько выпить… – И тут же она вспомнила, что Фрицу не выпить более ни капли. – Христа ради, зачем ты все испортила?!
– Алена! – Катюшка стиснула руки на груди, завела глаза. – Алена, да я на все готова, чтобы он никогда уже не исцелился!
Потребовалось время, чтобы Алена переварила новую жизненную цель своей приятельницы и смогла слабо пошевелить губами – не выдавив, впрочем, ни словца, ибо ответ опередил вопрос:
– Я полюбила другого!
И еще мгновение Алена немо глядела в сверкающие Катюшкины глаза, а потом все же исхитрилась спросить:
– Когда?
– Вчера! – простонала Катюшка, и слезы выступили на ее голубых очах, означая то неисчислимое количество страданий, которые она с того бесконечно далекого времени вытерпела. – Вчера полюбила, а нынче он мне предложение сделал!
Катюшка подскочила к листкам, которые Алена недавно читала, и, перебрав их, проворно выхватила один.
– Вот, послушай-ка! – торжествующе выкрикнула она и затараторила (не потому, что горазда была в бойкости чтения, – просто эти листки были уже назубок заучены-переучены!): – «Народ женский в Венеции зело благообразен, и строен, и политесен, [73] высок, тонок, во всем изряден; а к ручному делу не очень охоч, больше засиживают в прохладах, всегда любят гулять и быть в забавах».
Томно прижала листки к груди:
– Вот чего я хочу! Не теремного затворничества – свободы! Вот о чем мечтаю!
Желая во что бы то ни стало скрыть от подруги лицо – губы так и расползались в улыбке! – Алена схватила первую попавшуюся тряпицу и принялась елозить ею по подоконнику, вытирая желтые пахучие капли: все, что осталось от чудодейного зелья.
Она уже успела изрядно изучить свою благоприятельницу. Катюшка – никакое другое имя во всем мире не подошло бы ей так, как это: кругленькое, пушистое, мягкое, беззаботное! – Катюшка была болтлива, громогласна, смешлива, беззаботна – и обладала способностью выпаливать все, что только взбредет в ее ветреную голову, оттого Алена и знала, что метресса Фрицева умеет отменно находить на стороне замену тем удовольствиям, коих она лишена дома. Какие там «ручные дела»? Какое там затворничество?! Кроме этого загадочного Аржанова, которого Алена еще не видела и которого Катюшке так и не удалось залучить в свои объятия, кажется, не было в свете кавалера, который не побывал бы в них! Причем она умела так распорядиться своими часами и ласками, что те, которые делили их с нею, ни на мгновение не усомнились бы, что и сердце и тело этой хорошенькой «нимфы» (словечко было весьма модное!) принадлежит им всецело. Частенько на грудь, щедро открытую, Катюшка налепляла малюсенький «пластырь красоты», который напоминал Алене наглую черную муху и вызывал неодолимое желание согнать ее. Катюшка же уверяла, что у господ кавалеров «пластырь красоты» вызывает неодолимое желание поцеловать ее грудь в этом фривольно указанном местечке. Но дело, понятно, одними поцелуями не ограничивалось.
Катюшка порою следовала последней моде и подсовывала под юбки французскую новинку – фишбейн, или панье, из ивовых прутьев, однако ее легкомысленной природе сооружение сие только мешало: едва хлопнешься перед кавалером на спину – вдруг что-то трещит устрашающе. Каркас сломался! То ли дело обычные нижние юбки: задрал их ворох – и любись до одури! Так что фишбейны Катюшка надевала только на заведомо приличные балы или ежели шла куда-нибудь с Фрицем: с ним уж точно не приляжешь где ни попадя.
Катюшка казалась вполне довольна жизнью, при которой могла срывать цветы удовольствия, где они только ни расцветали. Фрица она и впрямь водила на шелковой веревочке и умело погашала нечастые вспышки его ревности. Так могло продолжаться вечно… и вдруг Катюшке вздумалось поломать эту счастливую, беззаботную жизнь! Предложение ей сделали! Но кто? какое? и насколько серьезное?
– Да скажи, не томи: кто он? Чего посулил? – осмелилась спросить Алена. – Аржанов, что ли, сподобился, наконец?
– Аржанов? – Катюшка глянула на подругу с отвращением. – Дождешься от него, как же! Раньше рак на горе свистнет! – И тут же лицо ее расцвело мечтательною улыбкою. – О нет. Это Людвиг…
– Людвиг? Уж не фон ли Штаубе? – ахнула Алена, и Катюшка радостно закивала, прижав руки к груди, так изрядно стянутой шнурованьем, что, чудилось, и вздохнуть-то без привычки невмочь:
– Он! Он!
– Да ведь Фриц же про сие непременно известен сделается! – испуганно глядела Алена на свою легкомысленную благодетельницу. – Они же приятели!
– Да я готова всему свету объявить свое счастье! – И Катюшка затейливым, прельстительным движением выхватила из складок юбки листочек, кругом измаранный корявыми строчками и уже изрядно смятый.
– У меня там карманчик потайной! – объявила она торжествующе. – Это ведь только у мужчин карманы на кафтанах для красоты, сверху нашлепнуты, а мы, бабы, сиречь дамы, все к делу пришьем! Вот – здесь все сказано. Поначалу он мне снимет дом в Китай-городе, возле Варвары Великомученицы, со всею обстановкою, с коврами, зеркалами, стульями… а лавки если и будут, то кармазином [74] застеленные! А спустя месяц мы с ним подадимся в Санкт-Питербурх! И будем при государевом дворе. Теперь ведь все в Питербурхе дома себе строят. Там царь, там двор, там верховые боярыни и боярышни… эти, как их, фрейлины. Нет, песенка барбарской Москвы спета!