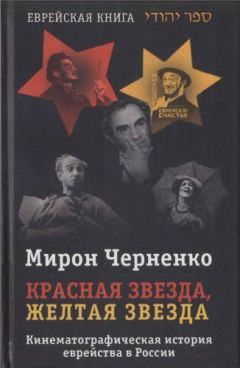Марина Друбецкая - Продавцы теней
За полтора года, прошедшие со смерти Лары, Ожогин запустил только три картины, одна скучней другой — как будто специально хотел, чтобы зрители громче свистели, да топали ногами, да гадили на полу шелухой от семечек, да обжимались в темноте. Срыв студёнкинского «Годунова», который тщательно готовил Чардынин, сам провалился. Не дотянули до конца — бросили съемки на полпути. Чардынин нервничал, умолял Ожогина продолжить, но тот лишь отмахивался: отстань, не до того. И к конкуренту, и к киноинтригам он полностью потерял интерес. Впрочем, как и ко многому другому.
Он теперь почти всегда пребывал в состоянии сонного полузабытья. Иногда в памяти брезжило смутное: тело, распростертое на кровати, кровь… Тело никакого отношения к Ларе не имело. Лара просто исчезла, и все. Помнил еще какую-то вертлявую девчонку, пигалицу, которая металась между ним и кроватью в спальне Лары, хватала за плечи, куда-то тащила. Девчонка потом заходила несколько раз — так сказал Чардынин, Ожогин этого не помнил. Лежал в горячке. Одно время даже опасались за его жизнь, но он выжил, через месяц начал подниматься с постели, только никак не мог понять — зачем выжил. Впрочем, может быть, именно горячка Ожогина и спасла. Ведь мертвой он Лару так и не видел. Хоронили без него. А если бы видел — кто знает, удалось бы ему не сойти с ума? Горничные не стесняясь болтали при нем — как будто он какая-нибудь бесчувственная болванка — о следствии, о чинах криминальной полиции, с утра до вечера заполнявших в те дни квартиру, о том, как ворошили вещи Лары, рылись в ящиках и шкафах, перебирали драгоценности и бумаги, искали предсмертную записку, вызывали домашних на допросы. Чардынин шикал на брехливых баб, прикрикивал, опасливо косясь на друга: слышал ли, не разнервничался ли? Ожогин слышал, но реагировал индифферентно.
За эти полгода он забросил не только дела, но и себя самого. Немногочисленные оставшиеся знакомые, быть может, не очень замечали произошедшие в нем перемены, однако сам про себя он все знал. И прежде человек большой, дородный, которому было тесно в любом пространстве еще и потому, что все вокруг заполнялось его веселой витальной силой, теперь он и телом, и душой стал рыхлым, нездоровым, вялым. «Весь как одна сплошная брыля» — подслушал он случайно слова, которые горничная выговаривала своему ленивому хахалю. Зеркала в дом так и не вернулись — осталась только дверная зеркальная переборка в гостиной, в сторону которой Ожогин редко поворачивался. А что — живот висит, да немалый, серый цвет кожи, набрякшие веки и, действительно, брыли.
Кое-как, не понимая, кому это надо, он пытался обихаживать свое заброшенное неуютное тело. Брился нечасто — хорошо, если через день. Тупыми канцелярскими ножницами неумело подстригал ногти. Ходил дома в одном и том же истертом халате. В старые годы по три раза в день менял белоснежные сорочки. Обслуживали его прислужницы Лары — маникюр, педикюр, дело французское и приятное. Каждое утро приходил куафер с бритвой и французским одеколоном. Брил, хлопал горячим полотенцем по щекам. Захаживали на его половину и Ларины массажистки. Сама Лара за этим следила — когда вспоминала, конечно, но все-таки…
Кстати, она не любила у него шершавых пальцев: «И так у тебя, душа моя, руки тяжелые стали как какие-нибудь медные инструменты, а еще и пальцы шершавые. Это все твои газеты! Я, кажется, говорила тебе, Алекс, от них только грязь! И бумага как наждак». Алекс — это на англо-американский манер. Лара готовилась к Голливуду. Он поставил себе за правило не думать ни о ней настоящей — Раиньке, ни о госпоже Рай. И в снах она, слава богу, не приходила. А если и появлялась, то мелькала на периферии кадра. Как-то снилась Ницца, набережная, вечерело — быстро-быстро темнело, будто наверху одну за другой тушили люстры. Зажглась цепочка маленьких огоньков — на горном склоне, вдали. Там по дороге двигался автомобиль. Два больших желтых огня — фары, — как светящиеся узбекские дыни, выплывали из темноты. И было ясно, что за рулем путешествует она, Лара, откидывает голову в шелковом платке назад, смеющаяся, довольная теплым ночным ветром. Одна.
Маяковский, зачастивший в дом Ожогина и почему-то пропагандировавший отращивание усов, водил его в публичные дома. Сначала хотел затащить в клуб новоявленной «свободной любви», уверял, что там поэтессы «такое делают из авангардных побуждений!» и что «озон футуристической революции» декларирует натиск и естественность. Потом понес что-то про «простые позы», отчего Ожогин покраснел.
— Увольте от бесплатной свободы — лучше с кошельком.
А недавно в глубинах квартиры, где втихаря гнездились разного рода приживалы — и откуда они только брались! как на варенье липли к расшатавшемуся хозяйству Ожогина, — появился странный человечек с носом пуговкой, заполонивший второй этаж ящиками с блестящими жуками и заторможенными членистоногими, похожими на свалку щепочек. Звали его Збигнев Манский, или, как он сам говорил, Збышек. Полуполяк-полурусский, зоолог, он был похож на одну из своих щепочек — не то кукла, не то человек.
О Манском и его странных затеях горничная наябедничала, что тот занимается у себя в каморке препарированием жуков и делает маленькие чучелки. Жуков своих Манский хотел снимать на камеру и показывал как-то вечером Ожогину сюжет, одновременно уморительный и неприятный: жук качался на качелях и все боялся упасть. Насекомых Ожогин побаивался. Не то чтобы страдал инсектофобией, но беззвучной, микроскопических размеров живностью брезговал.
Ожогин сидел в полосатом шелковом халате у столика, где был накрыт завтрак. Как часто по утрам у него болел живот. Вернее, ныл, потому что сегодня надо было выходить из дома. В банке заждались — нужны подписи под документами. Чардынин уговорил встретиться с новым сценаристом. Давным-давно прошли сроки примерки нового костюма. Не любил он последнее время выходить из дома — здороваться надо, улыбаться, отвечать на вопросы, задавать встречные. Не хотел ни слышать ответов, ни очаровываться чьими-то — даже своими — идеями. Очаровываться, впадать в состояние, когда все вокруг наэлектризовывается, кажется подсвеченным тысячами невидимых юпитеров, теряет плотность и легко поддается превращениям, которыми он умело управляет. Так часто случалось раньше, и он не желал повторений. Малейший проблеск танцующего перед ним мира напоминал о Ларе, о том, как нес ее на руках на съемочную площадку, и о том, как опускал вуаль на обугленное лицо.
Он хотел крикнуть горничной, чтобы принесла грелку, но раздумал, подлил чаю из самовара, бессмысленно блестевшего круглыми глупыми боками, и развернул газету. «Воровство в дачных поселках». Незачем оставлять в летних домах красивую мебель. «Новая модель патефона». Было бы неплохо подарить кому-нибудь патефон, да хоть бы Чардынину. «Судебный процесс г-на Гуляева». Мимо. Политические новости — мимо, мимо. «Натурбюро Ленни Оффеншталь». Ожогин остановил взгляд на рекламной картинке: комод, из разных ящиков которого выглядывают головки в забавных шляпах, из одного свешивается нога в ботинке с висящими шнурками, из другого торчат женские ступни в балетных тапочках с пробками. Да, конечно, Ленни Оффеншталь. Пигалица. Приносила фотографии натурщиков. Кажется, именно она выпустила на экраны этого жеманного красавца… Жорж… Жорж… Бог с ним! Вот уж стрекоза — прямо в коллекцию Майскому. Закрывала ему глаза, когда Лара… И потом…