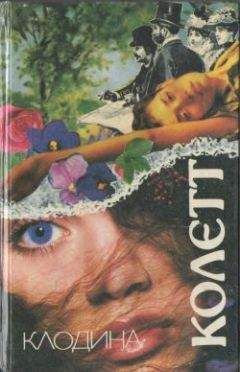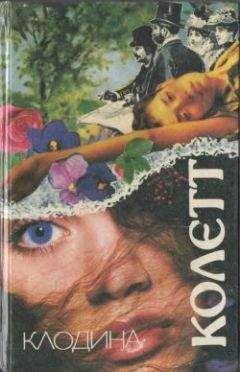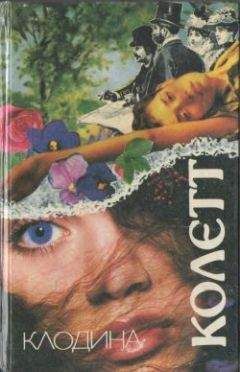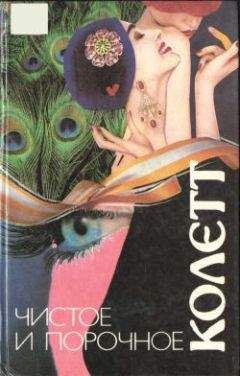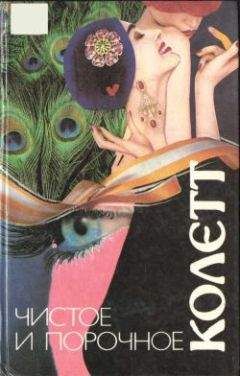Сидони-Габриель Колетт - Клодина уходит...
Подавшись вперёд, не в силах отвести взора от её устремлённых вдаль глаз, я со страстной тоской слушаю её проникновенный голос маленькой прорицательницы. Но вот она успокаивается и смотрит на меня с улыбкой, будто только заметила меня:
– Анни, у нас в полях растёт хрупкое растение, очень похожее на вас, с тонким стеблем и таким пышным колосом, что оно сгибается под его тяжестью. Ему дали у нас красивое название – плакучий жемчужник. Я всегда в мыслях своих так называю вас. Он дрожит на ветру, словно чего-то боится, и распрямляется только тогда, когда теряет все свои зёрна.
Её рука ласково обнимает мою шею.
– Милая моя травка, как вы прелестны и как это грустно! Давно… очень давно я не видела таких пленительных женщин, как вы. Взгляните на меня, милые мои глаза цвета дикого цикория, опушённые густыми ресницами, вы словно прозрачный ручей, притаившийся в чёрной густой траве, моя пахнущая розами Анни…
Обессилев от горя, я растроганно опускаю голову ей на плечо и смотрю на неё ещё полными слёз глазами. Она наклоняется ко мне и вдруг буквально ослепляет меня таким хищным, таким властным взглядом, что я, поражённая, зажмуриваюсь…
Но тут её ласковая рука отстраняется, и я с трудом сохраняю равновесие. Клодина вскакивает, упруго выгибается и с силой трёт себе виски.
– Нет, это уж слишком! – шепчет она. – Ещё немного… А ведь я обещала Рено…
– Обещали что? – спрашиваю я растерянно. Клодина как-то странно смеётся мне прямо в лицо, показывая крепкие зубы.
– Обещала… обещала вернуться не позже одиннадцати. Нам надо поторопиться, ещё немного, и мы опоздаем.
Только что окончился первый акт «Парсифаля», и мы снова вернулись в наш будничный серый мир. Все эти три дня длиннейшие антракты, особенно после «Золотого Рейна», так радовавшие Марту и Леона, самым возмутительным образом нарушали моё очарование или опьянение. Расстаться с покинутой и полной мстительных замыслов Брунгильдой и вновь оказаться в обществе моей разодетой в пух и прах золовки, мелочного Леона, страдающего неутолимой жаждой Можи. видеть бесцветный затылок Валентины Шесне, слушать все эти «Ах!», «Колоссально!», «Великолепно!», весь этот набор восклицаний, расточаемых на разных языках фанатичной толпой. Ну нет, увольте!
– Мне бы хотелось иметь театр только для себя, – призналась я как-то Можи.
– Ага, – ответил он мне, отложив на минуту соломинку, через которую тянул свой грог. – Но лучше послушать это, чем одному сидеть дома. Странная, однако, вы женщина. Вы чем-то похожи на Людовика Баварского. Но подумайте, куда завели его нездоровые фантазии: он умер, построив себе несколько резиденций, украшенных самой заурядной лепкой. Поразмышляйте над тем, к каким грустным последствиям приводят скверные привычки, порождённые одиночеством.
Я даже вздрагиваю. И, отказавшись от слишком большой порции лимонного мороженого, которую протягивает мне Клодина, отхожу от них, прислоняюсь к одной из колонн галереи и смотрю на заходящее солнце. Облака быстро несутся к востоку, в их тени сразу становится холодно. Тяжёлый чёрный дым фабричных труб окутывает Байрет, но тут сильный порыв ветра увлекает его за собой.
Слышатся резкие голоса группы француженок в узких, стягивающих бёдра корсетах и слишком длинных, волочащихся сзади и плотно облегающих спереди юбках; божественная музыка не произвела на них ни малейшего впечатления, они громко разговаривают с тем холодным оживлением, которое так привлекает в первое мгновение и начинает раздражать через четверть часа. Все они очень хорошенькие. Даже не вслушиваясь в их болтовню, можно догадаться, что они принадлежат к слабой и нервной расе, безвольной, полной презрения к окружающим, как непохожи они на эту, например, рыжую и невозмутимую англичанку, которую они разбирают по косточкам, а она просто не замечает их и, нисколько не смущаясь, спокойно сидит на ступеньке, выставив вперёд безобразно обутые ноги… Теперь настала моя очередь, они разглядывают меня и перешёптываются.
Одна из них, самая умудрённая опытом, поясняет: «Уверяю вас, это молоденькая вдовушка, она приезжает сюда на каждый фестиваль ради одного оперного тенора…» Я улыбаюсь столь быстро и неудачно составленному мнению и направляюсь к Марте. Моя золовка очень оживлена, на ней светло-сиреневое платье, она опирается на высокую ручку зонтика, красуется, выставляет себя напоказ, узнаёт парижских знакомых, здоровается направо и налево и внимательно изучает дамские шляпки… И как всегда, рядом с ней этот отвратительный Можи, он будто пришит к её юбке. Лучше подойду к Клодине.
Но Клодина, держа в руке – она сняла перчатку – пирожное с кремом, оживлённо болтает с маленьким странным созданием… Где же я видела это смуглое египетское лицо, на котором рот и глаза словно начертаны двумя параллельными взмахами кисти, эти лёгкие пушистые локоны, как у девочек в 1828 году?.. Неужели это мадемуазель Полэр? И всё-таки мадемуазель Полэр в Байрете, просто невероятно!
Обе они гибкие, подвижные, у обеих волосы зачёсаны на пробор, а в волосах, у самого лба, по бантику: у Полэр – белый, у Клодины – чёрный. Публика смотрит на них с жадным любопытством, все считают, что они удивительно друг на друга похожи. Я же этого не нахожу. Непокорные волосы Клодины кудрявятся, как у мальчишек. И в глазах её больше настороженности, больше недоверия к людям и больше… покорности, а в глазах Полэр – в её удивительных египетских глазах – живёт весь Восток… А всё-таки они похожи. Рено проходит за их спинами и с улыбкой ласково проводит рукой по их стриженым головкам; заметив мой изумлённый взгляд, он смеётся:
– Ну конечно, Анни. это Полэр, наша крошка Лили.
– Их Tiger Lily.[29] – подхватывает Можи. Неприлично виляя бёдрами, он проделывает несколько па столь модного кекуока и гнусавит:
She draws niggers like a crowd of flies.
She is my sweetest one, my baby Tiger Lily[30]
Я даже не решаюсь улыбнуться. Теперь мне всё ясно!
Движимая любопытством, не отдавая сама себе в этом отчёта, я подхожу слишком близко к обеим подругам… Клодина заметила меня. Она подзывает меня властным жестом. В сильном смущении я делаю несколько шагов и останавливаюсь возле этой хрупкой актрисы, та почти не замечает меня. Она держится очень уверенно, то и дело отбрасывает назад чёрные с рыжеватым отливом волосы и что-то быстро, возбуждённо говорит резким, гортанным, но приятным голосом:
– Вы понимаете, Клодина, раз я решила петь серьёзный репертуар, я должна познакомиться с тем, что сделано было до меня. Вот я и приехала в Байрет.
– И правильно поступили, – одобряет её решение Клодина, её золотисто-жёлтые глаза выражают восторг.