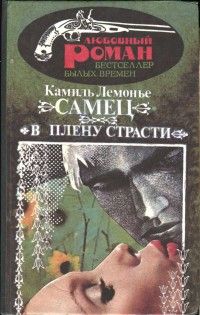Камиль Лемонье - Самец
— Ты как-то выше всех нас, словно всегда над нами. Ты такая красивая! Ты как мужчина!
Жермена находила в этих словах отклик того, что ей беспрестанно повторял Ищи-Свищи. Это обожание со стороны простодушной девушки доставляло удовлетворение ее тщеславию. Она спрашивала ее, счастливая и смеющаяся, что было в ней прекрасного? И Селина отвечала:
— Не знаю. Ты красива, вот и все.
С нее этого было достаточно. Она довольно часто с беспокойством обращалась к своему зеркалу в прежнее время, когда мысль о мужчине волновала ее. Она находила свой нос слишком толстым, брови слишком густыми, подбородок недостаточно круглым. Но теперь она знала, что хороша. Любовь научила ее созерцать свое тело, как чудесное и роскошное орудие. Она теперь знала, какую власть оказывает красота на сердца людей. По временам, оставаясь одна в своей комнате, она любовалась собой, гордясь своим телом и ощущая трепет. В конце концов она всецело покорила Селину.
В этой повелевающей гордости сказывался ее отец, у которого гордость составляла главное свойство характера. Она любила повелевать. Голос у нее был отрывистый и резкий, как у людей, умеющих приказывать, и Селина, находившаяся постоянно под действием любовных мечтаний, испытывала странное очарование власти этой женщины, порабощавшей ее влиянием своей силы и решительности.
Жермена снабжала ее теперь поручениями. Если она ее выдаст, она станет ей навек врагом вместо доброй подруги, какой была теперь.
Селина не совсем понимала, каким образом могла она выдать ее. Жермена разъяснила ей это слово в таком смысле, что Селина опять ничего не поняла. И бедная девушка глядела на нее, подавленная сознанием своей глупости. Тогда Жермена пояснила более ясно:
— Ну, как же ты не понимаешь! Ну, вот, если бы у меня был любовник, и ты бы об этом рассказала, — вот это и называется, что ты меня выдала.
Селина подняла брови.
— У тебя есть любовник?
— Ах, это только предположение. Но это может случиться. Только не надо никому об этом говорить.
И она запретила ей наотрез сообщать кому-нибудь о времени, которое они проводили вместе, и о часах, когда она приходила и уходила от нее.
У каждого ведь свои делишки. И никто не любит, чтобы другие совали в них свой нос.
— Будь покойна, — ответила Селина, погруженная в свои мечтанья.
Жермена покидала ее после этого, чтобы отправиться к Ищи-Свищи. Несколько раз Селина предлагала ей проводить ее. Она немного резко отклоняла ее предложение. Однако нельзя же было всегда отказываться! Селина брала ее под руку, и они шли так некоторое время вместе до того мгновения, когда Жермена, не в силах больше терпеть, решительно отсылала ее домой.
Оставаясь одна, Жермена углублялась в лес, полная необычайной радости.
Они разнообразили свои встречи, чтобы не быть замеченными. То выбирали покойное местечко под благодатным деревцом, то тропинку среди чащи кустарника или перепутье.
Вначале она шла медленно, осматриваясь с осторожностью во все стороны.
Очертания деревьев принимали человеческие формы в сумеречной полумгле. Ей нужно было некоторое время, чтобы собраться с духом. Но нетерпение вскоре пересиливало осторожность. Она пускалась бегом, перепрыгивая через кусты вереска, выбирая по кратчайшей путь, через разросшийся кустарник. Ветви зацепляли ее платье; она слегка вздрагивала от страха и, запыхавшаяся, с покрытым потом лицом, внезапно замечала его.
Это были минуты полнейшего счастья. Он говорил, что ждал ее целыми часами, не смея шевельнуться. Он не делал ей упреков. Он был слишком рад ее видеть. И в недрах своего существа она чувствовала сладкое волнение от того, что так любима.
Он брал ее на руки, носил, смеясь, лепеча, безумный от радости. Она была не тяжелее перышка в его могучих руках. Он испытывал дикую радость держать ее и прижимать к своей груди.
— А если я тебя никогда больше не отпущу? — говорил он.
Она ударяла его по голове или же, обвив рукою шею, прижимала к его затылку свои горячие уста. И отвечала:
— Ну что же? Держи меня так у себя на груди!
Он так крепко прижимал Жермену к себе, что готов был раздавить. Им овладевали порывы дикой любви. От поцелуев, которыми он ее осыпал, было больно, как от укусов. Он прикасался к ее телу жадным раскрытым ртом, и его челюсти вздрагивали. Он повторял ей без конца, что умрет, если когда-нибудь она его перестанет любить, и тогда его скелет будет валяться где-нибудь на дороге или висеть на суку. И раздирал себе ногтями кожу, чтобы показать ей, как мало дорожил своим телом. Она бросалась к нему, хватала его руки, с гневом умоляла верить ей.
— Говорю тебе, буду любить тебя до самой смерти.
Он глядел на нее, устремив пристальный взгляд на ее губы. Лицо его озарялось сияньем, и он бормотал:
— Говори мне так всегда, если это правда.
Ему всегда было мало того, что она говорила.
Он прислонял свое лицо к ее лицу, кидая острые взгляды и заставляя ее повторять постоянно одно и то же.
— Так, так… Еще, еще… Посмотри мне в глаза.
Иногда останавливал ее:
— Стой…, ты не хорошо сказала сейчас.
Она его ударяла от нетерпения.
— Ах, ты глупый!
И ему становилось немного грустно.
— Ты права, — я глуп. Но вот подумаю, что может ведь так случиться, что перестанешь меня любить… эх! и чувствую, что в голове моей все ходуном заходит.
Она пожимала плечами. Они оставались вместе до ночных теней. Тишина сурово надвигалась над их уединенным пристанищем, опускалась кругом. Их лица светились в темноте. Они садились радом, гладя, как возрастает эта белизна, и шептали вполголоса ласки друг другу.
В другие дни они внимали молча лесному шелесту в чаще этого моря листвы, которое постепенно расширялось от земли к небу. И ничего для них не было лучшего, как чувствовать, что каждое мгновение все сильней и сильней поглощает их необъятная, мутная мгла. Она всегда первая напоминала ему о времени.
— Уже? — говорил он.
И жаловался, не желая покориться разлуке. Он схватывал себя с отчаяньем за голову обеими руками и умолял ее повременить. Или же заключал в объятия и, смеясь своим нехорошим смехом, кричал ей:
— Попробуй-ка уйти!
Она должна была просить его ее отпустить. Говорила об отце, братьях, о необходимости быть осторожной. Он горячился, топал от злости ногами, ударял кулаком по дереву. И к этому примешивалась ревность.
— Ну, и что же твои братья? Значит, ты любишь больше своих братьев, чем меня? Ну, отвечай!
Она сердилась.
— Довольно с меня. Пусти!
Ее власть покоряла его и снова как бы принижала его. Его руки оставляли руку Жермены. Полные нежности и любви, они ласкали ее, не пытаясь обнимать. И он только грустно-грустно вздыхал, чтобы растрогать ее и не пробовал удерживать ее насильно.