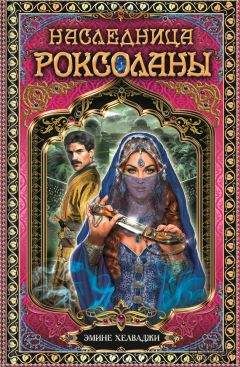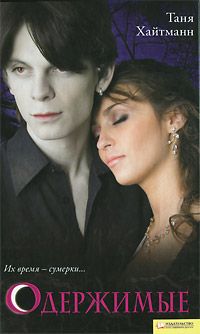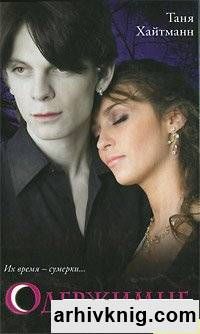Эмине Хелваджи - Дочь Роксоланы
Погруженные в собственные мысли, девочки не слишком обращали внимание на молчание, воцарившееся там, где происходила немыслимая, не дозволенная дворцовыми правилами встреча. А в комнате лишь слегка шуршало платье и слышалось тяжелое мужское дыхание, да и подглядывать совсем не тянуло – а вдруг увидишь то, о чем потом будешь жалеть всю жизнь?
Очнулись, когда голос матери прозвучал снова:
– Так ты за этим пришел сюда? Целовать край моего подола? Немного же тебе нужно, Ибрагим! Отпусти платье, оно легко пачкается, служанкам потом работы на пару дней…
Стук подошв, раздавшийся за этим, обе девочки слышали уже раньше. Так, завершив трапезу, вскакивают на ноги янычары, чтобы выхватить саблю и вновь продолжать тренировки. Но не на корточках же сидел перед матерью Ибрагим-паша, и вряд ли расположился он на черно-красном ковре, скрестив ноги!
Кажется, великий визирь стоял перед Хюррем-хасеки на коленях.
Эта мысль пришла в головы близняшек одновременно, и девочки переглянулись, закрывая ладошками рты, чтобы не ахнуть от изумления и ужаса, не выдать себя сейчас, когда и уйти уже невозможно, и оставаться, слушая все это, немыслимо. А оставаться придется, и слушать тоже придется, так что надо сидеть тихо и только коситься друг на друга расширенными от величайшего изумления глазами.
Вскочив, Ибрагим-паша снова забегал по комнате. Затем хрипло сказал:
– Моя хасеки научила меня дышать собой, а теперь спрашивает, почему же я задыхаюсь вдали от нее? Голос моей хасеки стал смыслом моей никчемной жизни, и я глохну, не услышав его хотя бы раз, но моей хасеки так забавно молчать, когда я рядом… Моя хасеки научила меня умирать вдали от нее, а теперь удивляется, зачем же мне ее видеть?
– Твоя хасеки? – В голосе матери слышалась жестокая издевка. Так говорила она обычно с провинившимися служанками и непутевыми евнухами, не способными отыскать нужные ей притирания. – Я не знаю такой. Или ты имеешь в виду свою достойную супругу, Хатидже-ханум? Как она, кстати?
Ибрагим-паша отмахнулся:
– А что ей сделается? Здорова. Клянусь Аллахом, хватит меня дразнить! Ты моя хасеки, и никого другого мне не нужно, разве не знаешь?
– Я – хасеки-султан. – Теперь голос Хюррем стал ледяным. – Помни об этом, особенно сейчас, когда над головой твоей сгустились тучи. Хватит, ты уже называл себя султаном, теперь муж мой гневается на тебя. Достаточно. Ты не солнце этой империи, ты – хорошо если луна, а может, и вовсе одна из песчинок под ногами моего султана. А я – жена султана, его кадуна, мать его детей. Его хасеки. Не твоя.
Смех Ибрагима-паши заставил девочек вздрогнуть. Так смеются люди, перебравшие хмельного, те, о ком говорят: «Пристрастившийся хуже взбесившегося». Таким нипочем ни заветы Корана, ни людское осуждение. Им лишь бы снова глотнуть того, о чем имам Садык – мир ему! – изволил сказать: «Употребляющий спиртные напитки предстанет в Судный день с почерневшим лицом, искривленным ртом, высунутым языком и, испытывая нестерпимую жажду, будет молить о ее утолении. Тогда Всевышний утолит его жажду из ямы, наполненной гнилью прелюбодеев». Девочки плохо представляли себе, какова у прелюбодеев гниль, но мертвецов после пыток видать уже доводилось, так что…
– О да! – хохотал великий визирь. – Я знаю, что ты принадлежишь ему. И еще я знаю, моя хасеки, как ты принадлежишь ему. О верности твоей султану давно уже на базар-майдане слагают легенды… Может, и мне спеть о ней парочку песен? Как думаешь, Хюррем-хасеки?
Звук пощечины, раздавшийся после этих слов, невозможно было перепутать ни с чем.
– Свою грязь, – мать почти шипела, зло и яростно, слегка задыхаясь, – свою грязь держи в своем собственном рту и не выплескивай ее на меня, слышишь? А если не в силах сдержать поток своих скверных речей, иди к жене и беседуй с ней хоть всю ночь напролет! Хатидже нравится жалеть убогих, она много жертвует странствующим дервишам, может, и тебе отсыплет от щедрот своих внимания и ласки!
Ибрагим-паша расхохотался и того пуще:
– О да, узнаю прежнюю Хюррем! Но советы женщины годятся лишь для женщин, ты не знала? Иди же ко мне, моя хасеки!
Мать простонала: «Пусти!» – и внезапно послышался звук падающего тела, а затем холодный, почти безразличный голос Доку-аги:
– Ты не дотронешься до моей госпожи, пока она этого не позволит.
Немыслимо: Доку-ага тоже был здесь! Он знал о встрече Хюррем-хасеки с Ибрагимом-пашой и ничего не сделал, чтобы предотвратить ее! Более того, сопровождал мать в этой безумной затее…
Михримах до боли закусила губу. Аллах, ну почему ты настолько несправедлив к султанским дочерям, сестрам будущих султанов? Бывшая полонянка, дочка гяурского священника, их с Орысей мать, роксоланка Хюррем, вертела могущественнейшей империей Востока и Запада, а ей, Михримах, предстоит гнить в гареме какого-нибудь затрапезного паши! И братья относятся к ней с пренебрежением и уже подыскивают себе наложницу побойчее, которая оседлает непутевого султана подобно тому, как Ашик-Гериб оседлал коня пророка Хызра, и будет управлять им, а заодно и всей империей. Почему неведомая девка, почему не она, Михримах?
Судьба несправедлива. Хоть беги куда-нибудь прочь, выходи замуж за странствующего батыра – по примеру героинь бесчисленных сказок. Пусть завоюет для Михримах собственную империю, где она сядет полноправной правительницей! Только где таких батыров нынче возьмешь?
А если б взялся, то-то было бы весело! Покинуть гарем, где каждый угол знаком до унылого воя Хаппы, мотаться по свету, милостиво принимать знаки внимания от своего батыра, а затем воссиять в новом государстве во всем величии и великолепии истинной султанской дочери! Ну а если муж и повелитель надоест, то можно ведь и как мама…
Последняя мысль напугала Михримах почти до безумия. Девушка закрыла лицо ладошками, ощущая, как горит кожа на щеках, и радуясь, что сестра не может читать ее мысли. Посылает же иногда шайтан в голову всякие ужасы! Это все шайтан, все его происки, а вовсе не желания самой Михримах, дочери великого султана правоверных. Ей недостойно о таком думать – вот она и не думает.
Совсем-совсем не думает, правда!
Хорошо бы ее отдали за достойного мужчину, приближенному к султану. Вот об этом можно думать, это не порочные грезы, которые она, Михримах, уже почти и не помнит. Дочь и сестру султана, если повести себя правильно, во дворец пустят, так мама говорила…
Орыся, разумеется, и не представляла, какие мысли крутятся в голове сестры. Девочку почти парализовало от ощущения нереальности, невозможности происходящего здесь, в этой комнате, под сводами дворца Топкапы. Такого просто не может быть – а оно есть, и Доку-ага в этом участвует…