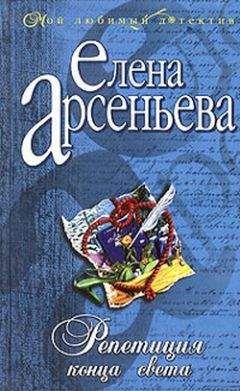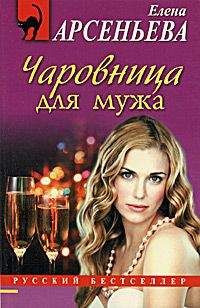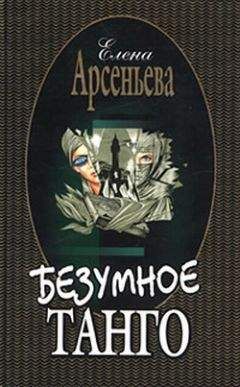Елена Арсеньева - Яд вожделения
Слушая о ее страшных приключениях, Ленька обморочно затих, но тут начал приходить в себя, а когда Алена рассказала про опустевший тайник, и вовсе оживился.
– Ну, теперь все просто, – сказал он со знанием дела. – Кто схорон украл, тот и хозяина убил, вот помянешь мое слово, это еще разъяснится!
– Как же оно разъяснится, скажи на милость? – недоверчиво пожала плечами Алена. – Кто сие выяснять станет?
– Мы с тобой, кто ж еще? – безмерно удивился Ленька такому вопросу, чем тронул Алену до слез.
– Ах ты, милый мой, – хрипло усмехнулась она, с трудом удерживаясь, чтобы снова не зарыдать. – Со мною рядом и сидеть-то опасно. Я ведь как домовой – от черта отстал, а к богу не пристал.
– Да я тоже, – буркнул Ленька. – Совершенно таков же. – И вдруг вскочил, бесшумно, будто кот на мягких лапках, порскнул к окну…
Алена перестала дышать и едва могла выговорить, когда Ленька, видимо, успокоясь, вернулся к ней:
– Что ж ты пугаешь меня так?
– Пугаю? – хмыкнул Ленька. – Это я сам боюсь! Знала б ты…
Он осекся, понурился, и Алене снова послышалась тоска смертная в его голосе. И, как всегда это бывало прежде, в далекие годы, все заботы и страхи ее словно бы попятились, притихли, размылись перед лицом тех страхов, которые одолевали стародавнего дружка. Он тоже чего-то боялся – боялся отчаянно! Чего?
– Скажи, так буду знать, – спокойно отозвалась Алена. – Ты ведь про меня все знаешь, а я про твои беды – ничего.
– Беды мои! – горько усмехнулся, а может, всхлипнул Ленька. – Твои беды – это да, а мои – дурь смертельная, и виновен в них один я. Я сам!
Tеперь уж настала Аленина очередь брать его за руку, и легонько пожимать, и поглаживать, и, как ни отмалчивался, как ни дергался Ленька, все же он наконец решился – и выдохнул:
– Знаешь, я – вор. И в розыске тоже… как ты.
– Что ж ты украл? – спросила Алена как можно спокойнее. Она и впрямь вдруг немного успокоилась, потому что ожидала признания бог весть в каком лютовстве. Вор, эка невидаль! Кто ж нынче не вор на Руси? И она сама, если на то пошло: украла ведь платок у той бабы в церкви, он и теперь на ней!
– Спроси, чего я не украл! – с нарочитым задором вскинул голову Ленька. – Такую школу на Крестцах прошел, что сам сделался мастером. Могу табакерку у прохожего из кармана вынуть, табачку нюхнуть да опять в его карман засунуть – а он, увалень, и не почует ничего. Вот этакую ловкость обрел! Ну и приметили меня… одноремесленники. Bзяли в свою шайку. Много чего мы с ними к ногтю пришили! Неуловимы были, потому что на мертвый сон обводили хозяев дома, куда пришли красть, мертвой рукой, или мертвыми зубами, или другими мертвыми костями…
– Неужто из могилы брали? – передернулась Алена, наслышанная про страшное, хоть и верное воровское колдовство.
– А то! – с жалким ухарством хохотнул Ленька. – И на Пасху заворовывали – для удачи.
– Грех ведь, – слабо отмахнулась она.
– Жизнь – она вообще сплошной грех. Не согрешишь – не покаешься, – пожал плечами Ленька. – Вот ежели б люди еще не помирали…
– Помирали?! – прижала руки к сердцу Алена.
– Было, ну, было! – угрюмо сказал Ленька. – Из песни слова не выкинешь.
– Неужто отдают богу душу после этих мертвых рук?!
– Нет, руки были, видимо, живые, человеческие, – вздохнул, помолчав. – Грабили мы, помню, струг с богатым грузом у Москворецкой стороны. А чтоб команда не перечилась, поднесли ей пивца с дурманом. Да, верно, атаман наш перестарался – ни один не проснулся, все перемерли, злосчастные! Я как про это услыхал, сам едва не помер, а «кумовья» мои похохатывают: зато, мол, доносу на нас не будет, видоков[55] нет.
– Отстань ты от них, отстань Ленечка! – горячо зашептала Алена. – Пока чист от крови – хорошо, но ведь кровь-то пьянит, в привычку войдет!
– Это ты верно говоришь про привычку, – повернулся к ней Ленька. Глаза его как-то особенно ярко сверкали во мраке, и Алена поняла, что они полны злых, бессильных слез. – Вот ужо завтра пойдем на дело, так у атамана железно задумано: всю прислугу убивать на месте, а боярыней сперва попользоваться, но потом и ее – шкворнем по голове. Дом же поджечь, чтоб ни следа не оставить!
– Господи! – даже не испугалась, а изумилась Алена этакой обдуманной жесточи. – За что ж ее так? Или насолила ему чем? Или злодейка какая особенная?
– Злодейка? – так и вскинулся Ленька. – Побольше бы таких! Боярыня милая, ласковая, веселая, собой пригожая. Живет она, правда, на хлебах у немца – ну, содержит он ее как полюбовницу. И то – не сыскать в Неметчине такой лапушки, белой лебедушки, как сия Катерина Ивановна! Дом ее – полная чаша, и вот пожелал из этой чаши вкусить наш атаман. Дом неподалеку от Никитских ворот. Как подумаю, что опять мертвые глаза после нашего ухода в небо глядеть будут, – сердце из груди выскакивает!
– Не тот вор, кто ворует, а кто ворам потакает! – вскинулась Алена. – Упреди ее! Чего причитаешь попусту? Явись к ней и скажи – так, мол, и так, боярыня милостивая…
– Скажи, скажи! – сердито передразнил Ленька. – А потом меня за эти словеса мои подельники дубиной отворочают – имя свое позабудешь навек, а не то и вовсе насмерть убьют.
– Почем же они узнают, что это ты?
– Атаман выведает, – с суеверным ужасом шепнул Ленька. – У нас был такой, вроде меня… добрый да глупый. Завалил одно наше рукомесло, ну, атаман его и выведал. Eсть у него книга – на вид вроде Псалтырь, а все в ней наоборот писано, шиворот-навыворот, начальная буква в конце стоит. Воткнет он под переплет ножичек, так что псалтырь эта черная повиснет, и начинает считать ведьмовским счетом: «Одион, другман, трейчан, черичан, подон, лодон, сукман, дукман, левурда, дыкса, двикикры… дыбчин… клек…» – а книга сама собой поворачивается, на виновника указывает. Запытают, похлеще чем в застенке! Разве что в бега мне остается податься – с тобою вместе.
– Нет, Ленечка! – помолчав, ответила Алена. – В бега я не уйду. Не по мне это – до смерти вздрагивать, да оглядываться, да погоню за собой чуять. Мне надо своего супостата, Никодимова убийцу отыскать, поглядеть в очи его. Никогда его не прощу. Никогда, пока он мне смертью не заплатит!
– Так-то оно так, – промямлил Ленька. – Однако ведь и Никодим Мефодьевич, гори он в адской смоле до скончания времен, сволочью был преизряднейшей. Сама знаешь, многие на него зуб вострили. Вспомни хотя бы парнишку, что на цепи с медведем сиживал. Да мало ли их таких!
– Не за то супостата виню, что Никодима убил, – покачала Алена головой. – Надо думать, ты прав: многим покойник лиха сотворил! А за то, что безвинных на расправу обрек. Фролка повешен, я и сама до сих пор не знаю, жива или мертва! А он – ничего, руки потирает где-то.