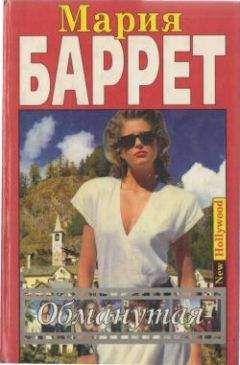Анастасия Туманова - Мы были юны, мы любили
– Ой… – прошептала она, машинально поднося ладонь к лицу.
Но Илья поймал ее за запястье, насильно отвел руку, оглядел жену с головы до ног, задержал отяжелевший взгляд на шрамах – и, прежде чем Настя поняла, что он хочет делать, опустился на колени.
– Илья!!! – всполошилась она. Отчаянно закружилась голова, Настя зашарила рукой рядом с собой в поисках опоры, неловко схватилась за перила крыльца. – Илья, бог с тобой, ты с ума сошел! Встань, люди смотрят!
– Пусть смотрят, – глухо сказал он, не поднимая головы. – Они знают. Все наши знают. И бог. Настька, клянусь тебе, больше ни одной… Лошади чужой – ни одной. Пусть меня небо разобьет, если вру. Вот так…
– Хорошо… Ладно… Встань только… – прошептала она, еще не понимая его слов и умирая от стыда из-за того, что муж прилюдно стоит перед ней на коленях, а цыгане молчат, будто так и надо. – Ну, поднимись же ты, проклятый, не позорь меня… Да что с тобой, я же живая, и ты у меня живой, что еще надо-то? Илья… Ну, все, все, вставай, пойдем, я уже видеть эти стены не могу…
Илья встал. Отошел в сторону, и к Насте бросились цыганки, разом засмеялись, загомонили, затормошили, и ни одна не ахнула, не скривилась, взглянув на ее лицо, не щелкнула сочувственно языком. И Настя подумала: может, еще ничего? Не так уж страшно? А последней к ней протолкалась старая Стеха, сразу, без обиняков, взяла ее морщинистой, горячей рукой за подбородок, повернула к солнцу и заявила:
– Ну, с этим я что-нибудь да сделаю. Совсем, конечно, не сведу, но и сверкать так не будут. Что они знают, доктора-то эти… Им бы только людей живых резать!
В тот же день табор тронулся в путь. Уже началась осень, и настала пора возвращаться зимовать на давно обжитое место, под Смоленск. За телегами резво бежал косяк откормившихся, сытых лошадей, в которых нельзя было узнать тех полудохлых, заморенных непосильной работой кляч с выступающими гармонью ребрами, которых цыгане за гроши скупали в деревнях. В Смоленске таборных уже ждали знакомые перекупщики, кочевое лето обещало принести немалый барыш.
День был теплым, безветренным. Настя, стосковавшись по солнцу, подставляла горячим лучам лицо, слушала скрип колес, неспешные разговоры цыган, ржание лошадей – все эти звуки, ставшие ей такими привычными за летние месяцы. Думала о том, что теперь самое страшное позади, что Илья жив и снова с ней, идет рядом с лошадьми, ругается на норовистую левую. И больше никогда, ни разу в жизни ей не придется бродить ночью, в темноте, возле гаснущих углей, зажимать ладонью стучащее сердце, стискивать зубы от выматывающей душу тревоги, молиться, и ждать, и готовиться к ужасному, непоправимому, к которому все равно не приготовишься, как ни старайся. Это прошло и не повторится больше. В том, что Илья сдержит свое слово, данное перед всем табором, Настя не сомневалась. За это стоило заплатить красотой, а стало быть, и жалеть не о чем. Она и не пожалеет.
На ночь остановились на обрывистом меловом берегу Дона. Распрягли лошадей, поставили палатки, и к Насте в шатер заглянула Стеха, вся обвешанная сухими пучками трав.
– Так, моя раскрасавица, вылезай на свет, сейчас мы над тобой помудруем. Ничего, бог даст, получше будет…
– Спасибо, Стеха, не мучайся, – отворачиваясь, сказала Настя. – Не надо ничего. Что теперь толку…
Старая цыганка пристально посмотрела на нее. Погладила по руке. Помолчав, проговорила:
– Я тебе врать не буду: что было, не верну. Но и как есть тоже не оставлю, тут уж забожиться могу. И не такое лечить приходилось… Через месяц две отметинки будет – и все! – Неожиданно Стеха усмехнулась. – Глупая ты, девочка, ей-богу! Да вон Фешка наша черту бы душу продала за такие борозды на морде!
– Фешка? Почему?! – ужаснулась Настя, невольно оглядываясь на крутящуюся у своей палатки жену Мишки Хохадо.
Стеха тихо рассмеялась:
– А ты ни разу не видела, как она себе лицо царапает, перед тем как добывать идти? До крови раздерет, а потом сядет посреди деревни и давай выть, что над ней муж со свекровью издеваются, бьют, жизни не дают! Мол, мало она им приносит! Гаджухи, дуры, ее жалеют, тащат и овощи, и яйца… А теперь прикинь, бестолковая, сколько ТЕБЕ насуют, коли ты при своей красоте да со своими царапинками то же самое скажешь! Не только торбу набитую – тележку впереди себя покатишь! Фешка-то хоть с целой мордой, хоть с располосованной – все одно страшна как смертный грех! А ты у нас – краса-а-авица…
Настя еще раз покосилась издали на рябую длинноносую Фешку, вздохнула. Подумала о том, что Стеха, наверное, права. И улыбнулась.
– Ну вот, так оно и лучше будет! – обрадовалась старая цыганка. – А то сидит, как молоко скисшее, носом хлюпает… Нечего уж хлюпать, кончилось твое мученье, теперь счастье начнется! Варька, эй! Лей воду в котел, ставь на огонь! И вот этот корешок разотри мне…
Подошедшая Варька молча взяла скукоженный черный корень и принялась растирать его в медной миске, а Настя озадаченно подумала: почему Варька снова здесь, возле шатра брата, словно и не выходила замуж? Место вдовы в палатке родителей мужа; там, среди Мотькиной родни, Варька должна была оставаться до смерти или, по крайней мере, до нового замужества, а тут…
Спросить об этом Варьку она решилась только в сумерках, когда Стеха, закончив прикладывать свои припарки, ушла и они вдвоем начали готовить ужин. На Настин осторожный вопрос Варька скупо усмехнулась краями губ.
– Так ты не знаешь еще? Пока ты в больнице лежала, меня Прасковья, свекровь, прямо поедом без соли ела. Ну, что я Мотьку тогда не уволокла из оврага. И скрипела, и скрипела с утра до ночи: как смогла мужа бросить, как его не привезла, не схоронила по-людски, как совести хватило покойника в овраге оставить, как собаку… Я два дня слушала, жалко было ее, мать ведь, она почернела вся с горя… А на третий молчком узел связала и к Илье в палатку перебралась. Ох, крику было, шуму – на весь табор! Прасковья прибежала, честила меня, честила, как только не называла! Слава богу, Илья вышел и сказал: Мотька мне братом был, но и сестру обижать не позволю, вы мне за нее золотом не платили, а приданое не маленькое взяли. Так оставляйте его себе, а Варьку не трогайте, пусть живет при мне, как прежде.
– И они согласились?! – не поверила Настя.
– А то… Покричали, поругались и успокоились. Жадность, видать, пересилила.
– Ну и хорошо, – торопливо сказала Настя, касаясь ее руки. – Мне с тобой во сто раз легче. Вот скоро в Смоленск зимовать прибудем…
– А я ведь уеду, пхэнори, – вдруг прервала ее Варька, глядя через плечо Насти в затягивающуюся туманом степь.
Настя всплеснула руками:
– Куда?!
– В Москву. – Варька помолчала. – Ну, что ты так смотришь? Меня Митро еще весной просил остаться, говорил – Яков Васильич примет, голосов-то хороших мало. Поеду хоть на зиму, денег заработаю, а к ростепелям, дай бог, вернусь к вам. Опять в кочевье тронемся.