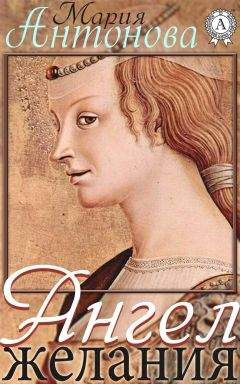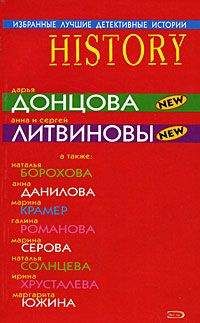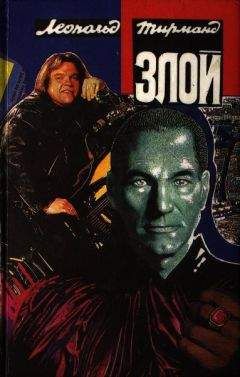Марина Струк - Мой ангел злой, моя любовь…
Глава 46
Медленно катилось солнце по небосводу, миновав полуденную точку еще несколько часов назад. Усадьба была полна благостной тишины и солнечного света. Даже лакеи молчали, натирая воском паркет, уже давно от их усилий ставшим подобием стенных зеркал, настолько сверкающим тот был. Не переговаривались, расставляя высокие тяжелые вазы, для которых садовники уже срезали ароматные букеты садовых и оранжерейных цветов. Молча натирали серебро для предстоящего ужина и девушки, поставленные в помощь буфетчику, в который раз проверяющему важно свои владения в этой небольшой комнате подле большой столовой. Достаточно ли фарфора? А хрусталь блестит ли, как должен, чтобы играть разноцветными бликами в свете огоньков свечей? И достаточно ли натерли серебряные канделябры, которые будут этой ночью стоять на господском столе?
Тихонько, стараясь не потревожить отдыхающих после обеда господ, суетились камердинеры и горничные, подготавливая платья, шали, береты и чепцы, сюртуки и мундиры, а кому-то даже и парики к предстоящему балу. Проверяли веера и тонкие бальные дамские туфельки, начищали воском кожаные мужские туфли, чтобы те так и блестели вечером на господских ногах. Натирали до блеска камни украшений или орденов, чтобы господа сумели достойно показать себя на бале во всем великолепии.
В саду крестьяне под руководством одного из лакеев и проверяющего все работы в доме дворецкого устанавливали шутихи и фейерверки для предстоящей огненной феерии. Садовники же спешно подрезали лишние ветви, убирали лишние детали в цветниках партера, чтобы ничто не нарушало гармонию созданного их искусными руками великолепия.
В белой кухне усадьбы и вовсе царил дикий шум и суета под руководством прибывшего из Москвы вместе с барином повара, которого уважительно величали Лаврентием Никифорычем. Тот был из дворовых графини да стал господином ныне над дворней — получил выучку поварскому искусству аж в Английском клубе, отчего его покорно слушалась даже бывшая господская повариха, уступившая ему свой пост в кухне и ставшая ему в помощь. Но даже знания и мастерство не помогали повару ныне унять свое волнение — шутка ли, впервые за три года ужин на пять десятков персон!
Во флигеле тоже царила тишина, но она была полна не молчаливой суеты, а безмятежности. Тихо посапывал, раскинув руки в стороны, маленький Сашенька, как обычно сбросив с себя легкое покрывало. Спала, положив голову на спинку кресла, Пантелеевна, убаюкивающая своего питомца и сама утомившаяся по жаре. Она похрапывала периодически, и при этом тихом храпе Сашенька морщил недовольно лобик, вызывая улыбку у Анны. Она все-таки поправила его покрывало, понимая, что как только она выйдет за порог, тот сразу же его сбросит, и вернулась к себе, стараясь ступать неслышно по скрипучим половицам в коридоре.
— Мадам тетя ваша прислала отрубей миндальных, — встретила ее Глаша, уже замешивающая в невысокой мисочке глиняной грубоватую на ощупь кашицу, которой требовалось протереть и лицо, и шею, и часть груди и плеч. — Велела передать, что вы, барышня, чересчур потемнели на солнце за прошлые дни… негоже то!
Анна только плечами пожала, позволяя Глаше расстегнуть простенькое домашнее платье и, оставив только одну сорочку нижнюю на теле, тереть по коже эту кашицу из миндаля. Было довольно неприятно, а порой даже больно, но Анне даже нравилось сейчас это мучение. Оно заставляло забыть о том, что ей предстояло сделать нынче ночью. И о том, в чем обещалась тетке, если все пойдет не так, как она планировала, если она ошиблась. Нет, урона ее чести в том случае не будет… Оленин слишком благороден для того, но она будет знать. Знать, что все кончено, что сама… О, как найти слова для того разговора!
— Ай! Ты что?! — Анна едва не взвизгнула в голос, когда тряпица больно прошлась по спине, удаляя остатки миндальной кашицы и больно царапая плохо смолоченным орехом нежную кожу. Только вспомнив о присутствии в доме ребенка, сдержалась, только зашипела на Глашу, вырвала из ее руки тряпицу. — Смыть тотчас! Не буду тереть! Уж лучше пусть дурнушкой сочтут, чем расцарапанная выйду!
— Ой, барышня! Я ж ненароком! — засуетилась вокруг нее Глаша, а потом обе замерли, когда раздался вполне слышимый стук в передней флигеля. — Кто это к нам в час послеобеденный? Кого принесла?
На удивление Анны, услышавшей с первого этажа дома женский голос, ей принесли весть, что пришла Катиш и просится переговорить с ней. И разговор этот срочный, оттого даже при подготовке к балу предстоящему она согласна побыть в спальне, лишь бы Анна согласилась. А то после самой надо бы, и времени не будет вовсе.
Анна не отказала, и Катиш поднялась в спальню, с удивлением в первые минуты разглядывая небольшую комнату (право, в прежние времена у Анны даже уборная была больше этой спальни): и неширокую кровать под балдахином, и комод, и столик туалетный с зеркалом, в которое на нее вопросительно смотрела кузина.
— Огуречная вода, — Глаша поставила перед Анной очередную мисочку, а после по ее знаку, удалилась после легкого книксена, плотно затворив дверь. Катиш все молчала, прошлась к столику, у которого стопкой лежали книги, пролистала верхнюю из них с таким интересом на лице, словно только и пришла сюда ныне для того.
Анна не стала настаивать — принялась вытирать лицо, шею и плечи огуречной водой, чтобы хотя бы немного осветлить кожу. И настолько сосредоточилась на этом занятии, что пропустила тот момент, когда petite cousine оставила книгу и стала пристально наблюдать за Анной в отражении зеркала. Только когда проводила тряпицей по груди, заметила этот странный взгляд и вопросительно подняла брови, вынуждая ту заговорить наконец.
— Сколько тебе лет, Аннет? Двадцать пять? — спросила та, и Анна тут же рассердилась при этой реплике.
— Ты прекрасно ведаешь, Катиш, что мне еще далеко до «кандидатки»! Ты младше меня на два лета и два месяца… вот и поскладывай, сколько годков! — раздраженно бросила в ответ Анна.
— Я не желала тебя обидеть, — мягко сказала кузина. — Tout au contraire [651]. Будто каждый прожитый тобой день только множит твою прелесть. Я думала, ты переменилась за эти годы… Нет же. Все так же, как ранее. Тебе довольно просто молчать и улыбаться, но они снова все будут у твоих ног… Как тогда. Я ведь завидовала тебе. И до сих пор во мне живо это гадкое чувство. Ты улыбаешься? Я думала, ты будешь зла на меня за то…
Анна действительно улыбалась, глядя на нее в зеркало снисходительно. Так глядят на малыша, который сказал какую-нибудь несмышленость.
— Я знаю, — тихо проговорила в ответ. — Я это знала всегда. Тебе нечего стыдиться, ma petite. Этому греху подвержены многие, и даже я.