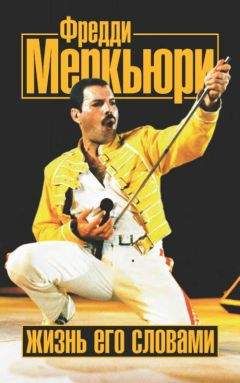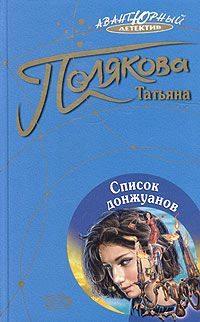Мария Кунцевич - Тристан 1946
Браун не отличалась особой сообразительностью.
— Не знаю, кого вы имеете в виду, полковник, говоря о нежелательных гостях, — вмешалась она в наш разговор, — но я считаю, что, если бы не эти гости, англичанки вообще позабыли бы, как выглядит мужчина. Наши джентльмены не поднимают глаз от газеты, а руки и ноги служат им, главным образом, для игры в гольф. Некоторые из них, пока молоды, любят ударить по мячу, а когда постареют, не способны приударить за женщиной, они просто-напросто не видят, не замечают нас. — Чувствовалось, что в душе ее вскипает благородная ярость старой девы, ее большие собачьи глаза стали влажными.
Ребекка торжествующе расхохоталась.
— Браво, Браун. Неплохо сказано. Чужеземцы для нас желанные гости. Надо только уметь направить их на верный путь. Вот этот, к примеру, очаровательный чужеземец, который сейчас так невежливо повернулся спиной к славному нашему обществу, должен был бы получить из Форин-офиса предписание немедленно прекратить свою бессмысленную зубрежку и уделить все свое внимание одиноким женщинам.
Михал, словно речь шла не о нем, встал и отошел в другой угол, где собралась молодежь. Через минуту кто-то из них сел за фортепьяно, а Михал обнял Кэтлин, и они пошли танцевать.
— Может быть, миссис Брэдли и есть та самая одинокая женщина, нуждающаяся в опеке чужеземца? — послышался скрипучий голос полковника.
Я краем глаза наблюдала за профессором — никогда еще мне не приходилось видеть человека столь углубленного в свои мысли, не выносящие никакого соприкосновения с действительностью. Перед ним мелькали люди — они кривлялись, злословили, торжествовали, злорадствовали, а он не давал себе труда их видеть. Даже Кэтлин и Михал не надолго завладели его вниманием. Он выполнял обязанности хозяина автоматически, словно ксендз, в сотый раз свершающий обряд богослужения, или как режиссер, который устал от репетиций и больше не вмешивается в спектакль, положившись на судьбу.
Насмешек он вроде бы не замечал.
На поставленном сбоку — в углу молодежи — столике уже в такой ранний час можно было увидеть шеренгу бутылок, которые консервативный Эрнест откупоривал с большой неохотой. Но и этот стол не привлекал Брэдли, обычно неравнодушного к вину. Он сидел чуть в стороне от всех, прямо напротив камина, и, положив ногу на ногу и ритмично покачивая стопой, смотрел на огонь. Когда разговор становился громче, он оборачивался и смотрел на всех с удивлением и с укором. Его здесь не было. Такой же отсутствующий вид был у Михала, когда он в долине примул всматривался в свой несуществующий Труро.
Приемы у Брэдли, на которых я не могла не бывать, чтобы не давать пищи новым сплетням, стали для меня пыткой. Каждая отравленная стрела, нацеленная в Михала и Кэтлин, но отраженная броней их равнодушия, рикошетом попадала в меня. В тот ноябрьский день я поняла, что мне придется страдать еще и за профессора. Потому что и для него общепринятые нормы морали перестали существовать. Он жил вне общества и времени, как и те двое, всех их объединяла враждебная здравому смыслу страсть.
В какой-то момент я заметила вдруг, что Михала и Кэтлин здесь больше нет. Пошла в библиотеку, заглянула в соседние комнаты и возле ведущих в гостиную боковых дверей увидела миссис Мэддок, она вся превратилась в слух. Дом показался мне кораблем, который плывет в тумане и вот-вот наскочит на риф.
Промучившись так часа два, я решила не дожидаться Лауриной машины и вернуться домой автобусом. Я оделась и вышла во двор, широкий, с посыпанными гравием дорожками; по бокам его обрамляли одноэтажные флигеля, в одном из которых прежде был гараж, теперь приспособленный под конюшню.
Смеркалось. Моросил дождь. Я услышала, как под лошадиными копытами хрустнул гравий — Михал выводил из конюшни лошадь. В воздухе мелькнула красная блуза: Михал вскочил на неоседланного коня и стал поглаживать его по холке, словно уговаривал, конь пошел шагом, а потом затанцевал, будто в цирке. Через мгновение он затрусил мелкой рысцой, потом перешел на крупную рысь, наконец, на галоп, когда конь, завершая круг, поравнялся с подъездом, Михал оттолкнулся ладонью от спины скакуна и, не отпуская поводьев, соскочил на землю. Пробежав несколько шагов, Михал снова вскочил на коня и нежно похлопывал его по шее, гарцуя перед Кэтлин, золотистые одежды которой поблескивали на фоне стены, а конь под ним пританцовывал, исполняя что-то вроде лошадиного фокстрота.
Двери за моей спиной скрипнули… Я увидела Брэдли. Словно бы очнувшись, он поднял воротник сюртука. Михал в это время как раз натянул удила и, сжав коленями коню бока, заставил его встать на дыбы. Это длилось всего мгновенье, конь снова стал пританцовывать на месте, мелькала красная блуза, раздувавшаяся на ветру, у стены поблескивали золотистые брюки Кэтлин. Михал осадил коня, взял поводья в левую руку, правую протянул вниз, в темноте сверкнула молния — Кэтлин в своем бальном костюме села впереди него. Он обнял ее одной рукой, погнал коня галопом, громко застучали копыта, и они выехали за ворота в хмурую осеннюю ночь.
Профессор стоял не шелохнувшись. Я заглянула ему в лицо — это была маска умирающего. Кто-то возле нас кашлянул. Эрнест раскрыл над головой профессора зонт: «Вы простудитесь, господин профессор!»
Гости, предоставленные самим себе, высыпали из дому, подъезжали машины.
— А где наши молодые? — громовым басом спросила Ребекка.
Смеясь и болтая, бросая насмешливые взгляды на Брэдли, гости гурьбой выходили из дому.
Я вспомнила старинные сказания — отрубить голову врагу казалось когда-то самым обычным делом. Гости Брэдли тоже уносили с собой голову хозяина дома, чтобы вдоволь потешиться и поразвлечься. Может быть, и он был их врагом? И они видели свой долг в том, чтобы отомстить за тот удар, который поэзия нанесла корнуэльской прозе?
В те дни я записала несколько разговоров из тех, что велись у меня в доме в Пенсалосе.
— Михал, все это сон, который когда-то кончится, время будет течь и течь, жизнь выбросит тебя на берег, как снулую рыбу. Что бы сейчас сказал тебе твой отец?
— Моего отца нет. А когда он был — тоже жил как во сне. Ему снилось, что в мире будет справедливость. Мне такой сон сниться не может.
— Но, дорогой твой отец трудился для того, чтобы мир стал лучше. Во имя этого он и погиб.
— Трудился? Мне не нужно трудиться, мой мир лучше, потому что он принадлежит только мне. У меня свой собственный мир. И если меня убьют, мой мир погибнет вместе со мной и не нужно будет строить его заново на развалинах. Не будет ни дыма, ни пепла никакой шумихи в ООН. Даже папе римскому не придется за него молиться.