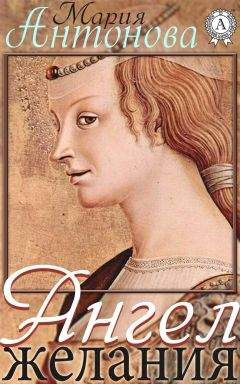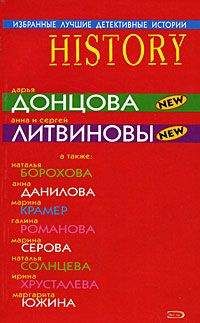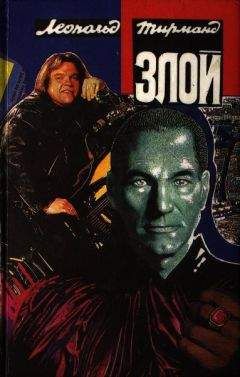Марина Струк - Мой ангел злой, моя любовь…
И в рукоделии Софи превзошла Анну, пришлось признать той, когда они однажды договорились занять себя не только беседой, но и работой. Собственная вышивка показалась Анне такой неаккуратной, такой несовершенной, по сравнению с работой Софи. Дивные цветы, волшебные птицы с широкими крылами разноцветных перьев… Чудо, а не работа!
— Полноте, — смутилась Софи в ответ на комплименты Анны. — Это не моих рук творение. Сама бы я не создала такой работы. Это мне Andre привез из Франции картинки. И нити. Они же тоже важны. У меня изумительные шелковые нити! Таких тут не достать, как закрылись многие колониальные лавки. А желаете, я вам принесу их следующего дня? — вдруг встрепенулась Софи, а потом широко улыбнулась своей мысли. — Я вам принесу, не спорьте даже! Мне Andre столько их привез из Франции, что и не счесть! Он так добр ко мне… не каждый брат подумает, что сестре необходимы все эти мелочи, которые он прикупил для меня. И маменьке много привез. А какие кружева! Какое шитье!
Софи что-то еще говорила взбудоражено, но Анна уже не слушала ее, пытаясь удержать на губах улыбку. Слова Софи с его страшным смыслом так больно ударили в еще незажившее, в не затянувшееся шрамом больное место, что даже дыхание перехватило. Верно, не каждый брат способен знать, что необходимо для простого женского счастья, что надобно привезти из Европы тоскующим по прежнему изобилию модницам. А вот женщина знает то доподлинно и может подсказать. Готова поспорить на что угодно, думала Анна, разбирая на следующий день принесенные в дар для нее мотки с нитками, что эти самые нити тоже выбирала она, Мари! Оттого и переменилось ее настроение в те минуты, ушла былая легкость, с которой они беседовали прежде с Софи. А объяснить разве можно было своей собеседнице, отчего так стала неразговорчива вдруг и отчего так не рада подаркам?
А потом и вовсе помрачнела, когда Софи заговорила о прогулке, которую намечали через два дня. Планировалось, что выедут поутру, когда еще не так будет припекать солнце, на колясках и верхом и двигаться будут медленным шагом до дальнего луга на границе Святогорского и имения Голицыных. Там и будет сервирован поздний завтрак, а после и легкий обед. Там и пробудут до того момента, как пойдет солнце к краю земли, проводя время кто за играми подвижными и забавами, кто за беседами неспешными, а кто и в легкой дреме под тенью тентов или деревьев.
Ранее Анна бы только воодушевилась при упоминании о предстоящем развлечении, но не ныне, когда ее присутствие на этой прогулке зависело от решения тетушки. Веру Александровну и Катиш ждали в Милорадово со дня на день, как рассказала Софи. Bien sûr, они будут жить в усадебном доме, как гости Олениных. Быть может, из-за этого невольного раздельного проживания Анна чувствовала себя ныне совсем лишней на предстоящих гуляниях? Быть может, потому вдруг пропало желание вообще принимать в них участие?
— Нет ли у вас вестей об Андрее Павловиче? Успеет ли он воротиться до первого выезда? — не могла не спросить Анна, надеясь наконец-то услышать о возвращении Андрея. Он отсутствовал более седмицы, и иногда ей казалось, что даже не дни миновали со дня их прощания в передней, а целые месяцы.
— Мы получили от него письмо прошлого дня из Москвы, — ответила Софи, снова отчего-то замыкаясь тут же, становясь холодно-отстраненной. — Андрей Павлович уже покончил с делами усадьбы подмосковной, полагает воротиться через пару дней, коли Господь тому поспособствует. Я думаю, прибудет тотчас после последнего гостя приезжего.
Разговор после совсем не шел так же плавно и легко, как бывало меж ними ранее. Вскоре Софи поспешила распрощаться с Анной, словно почувствовав ее дурное настроение, что еще только пуще раздосадовало Анну. Это ж надобно — разве воспитанная барышня будет показывать свой норов и свою хмурость другим? И разве воспитанная барышня будет слушать толки, которые передаст ей горничная, успевшая многое разведать за эти дни у своего возлюбленного, что в доме усадебном служил? Отчего Анна тогда не подала знака Глаше замолчать, как делала это обычно? Отчего молчала только и слушала слова, снова разбудившие в ней то худое, что она так старательно гнала от себя?
— Разведала я, барышня, чего это барин так нежданно в Москву уехал. И отчего мадам маменька его не довольна тем отъездом. Нет, она, верно, во все дни недовольная и снурая ходит. Такова уж она! Но тут…, - и Глаша склонилась пониже к Анне, волосы которой расчесывала перед сном. — Он письмецо получил. От невестки своей, говорят. Что-то там неладно у ней. Недаром говорят люди — невестки мутливы, а свекрухи ворчливы. Видно так и есть и тут! Мадам маменька барина долго еще по щекам била да уши выкручивала дворовым после отъезда барина. Все от злости своей. Ох, и немерено в ней злости-то! Вы бы, барышня, поостерегитесь взгляда ее. Люди божатся, что у ней глаз недобрый… не такова она, как ее сиятельство, упокой Господь душу покойницы в своих чертогах!
Анна будто в забытьи тоже перекрестилась вслед за горничной, совсем не осознавая, что делает. И даже не помнила, как доплела ей косу Глаша, как легла сама в постель, как свечи задули, впуская в комнату вечернюю темноту. В голове крутились разные мысли и обрывки воспоминаний, чужие слова, наполняя душу какой-то странной тревогой и тоской, терзая сомнениями.
Значит, уехал по письму вдовы брата. Вестимо, потому Софи показалась ей столь беспокойной и встревоженной в первые дни, когда они знакомство свое продолжили. Оттого она так приглядывалась к Анне, должно быть — проверяла, знает ли та об истинных причинах отъезда брата. А ведь та история была столь значительной, что о ней даже говорить отказывалась Марья Афанасьевна. Что там ныне? Вдруг былое чувство могло воскреснуть, словно птица Феникс из пепла? Недаром же поехал по первому зову, несмотря на недовольство матери.
А потом взгляд упал на корзину с рукоделием, стоявшую темной фигурой на столике у зеркала, вспомнила о нитях. И далее — о покупках в Париже и о той, кто помог совершить их в местных лавках. Захлестнуло душу тоской и болью более сильной, чем прежде при мысли о мадам Олениной младшей. До сих пор представлять то, что было меж Мари и Андреем было, тягостно, вызывало в ней злость и отчаянье. Почему Павлишин не отдал письма? Отчего не попытался хотя бы?
Нет, вдруг сказала себе Анна мысленно. Нет, не вина бедного господина Павлишина в ее горестях, в ее боли нынешней. Только сама она виновна в том. Более некого осуждать. А потому — забыть бы. Забыть, как страшный сон! Словно и не было ничего. Никакой Мари. Никакой мадам Олениной, красавицы, по которой, по толкам, многие в Петербурге сходили с ума и теряли сердца. Все это в прошлом, так пусть и останется там. Чтобы могло сложиться будущее…