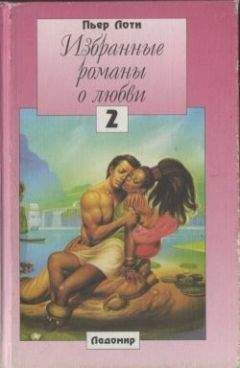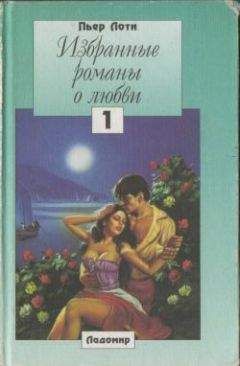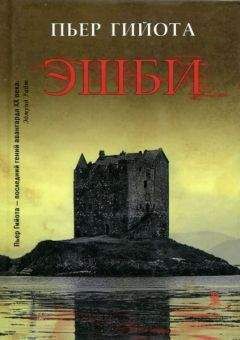Пьер Лоти - Госпожа Хризантема
В садах и на прилегающих к храму территориях расположились невообразимые цирковые балаганчики, и их разрисованные белыми иероглифами черные флажки на гигантских шестах плещутся на ветру, словно украшения катафалка. Подождав, пока наши мусме завершат поклонение святыням и бросят пожертвования, мы всей толпой отправляемся туда.
В одном из этих ярмарочных бараков посреди пустой сцены на столе лежит на спине мужчина. Из его живота возникают марионетки почти в человеческий рост с жуткими косоглазыми масками; они разговаривают, жестикулируют — а потом вдруг обмякают, валятся, словно пустые тряпочки; и снова резко подымаются, будто на пружине, меняют костюмы, меняют лица, бьются в нескончаемом исступлении… В какие-то моменты их бывает три, а то и четыре одновременно: это четыре конечности лежащего человека, его поднятые вверх руки и ноги, каждая из которых имеет свое платье, свой парик, свою маску. Между этими призраками разыгрываются сцены, идут ожесточенные сабельные бои.
Особенно устрашающе выглядит марионетка старой женщины с плоской физиономией и замогильным хохотом; каждый раз при ее появлении свет ламп тускнеет; в оркестре слышится что-то вроде зловещего стона флейт, сопровождаемого дребезжанием трещоток, напоминающим бряцанье костей друг о друга. Разумеется, у этого персонажа в пьесе отвратительная роль, наверное, какая-нибудь старуха вампирша, злая и кровожадная. Самое ужасное в ней — это ее тень, нарочито четко вырисовывающаяся на белом заднике; непонятно, как это делается, но тень, повторяющая все движения марионетки, как самая настоящая тень, воспроизводит очертания волка. В какой-то момент старуха оборачивается, обращает к зрителю свое безносое лицо, принимая протянутую ей чашку с рисом; тогда на заднике виден вытянутый профиль волка, с торчащими ушами, отвислыми губами, зубами и высунутым языком. Оркестр тихонько скрипит, стонет, вздрагивает — а потом разражается похоронными звуками, словно стая сов; а дело в том, что старуха начинает есть, и тень волка тоже ест, двигает челюстями, грызет другую тень, узнать которую нетрудно — это рука младенца.
Затем мы идем смотреть на большую японскую саламандру[57] — животное, в этой стране редкое, а в других местах земного шара и вовсе неизвестное, жирную холодную массу, медлительную и сонную, которая кажется пробой допотопного времени, случайно забытой во внутренних водах этого архипелага.
Потом — ученый слон, которого наши мусме боятся; потом эквилибристы, зверинец…
Только в час ночи возвращаемся мы к себе, в Дью-дзен-дзи.
Сначала мы укладываем Ива в его маленькой бумажной комнате, где он уже однажды ночевал. Потом ложимся сами, после ритуальных приготовлений, маленькой трубочки и непременного «тук-тук-тук-тук» о бортик коробки.
Но вдруг Ив во сне начинает метаться, бить ногами по перегородке, ужасно шуметь.
Что же это с ним такое?.. Я воображаю, что ему снится старуха с тенью волка. Удивление отражается на лице Хризантемы, она приподнимается на локте, прислушивается…
Вдруг — озарение; она поняла, что его мучит:
— Ка! (Комары!), — говорит она.
И, чтобы я лучше понял, о каком насекомом идет речь, она сильно щиплет меня за руку своими острыми ногтями и корчит при этом уморительную гримасу, имитирующую выражение лица укушенного человека…
— Но, право же, Хризантема, вся эта мимика совершенно ни к чему! — Я давно знаю слово «ка», я отлично все понял, уверяю тебя…
Все это было проделано так быстро, так забавно, с такой славной миной, что у меня и в мыслях не было всерьез рассердиться, — хотя завтра, я уверен, у меня будет синяк.
Ладно, надо вставать и идти выручать Ива, нельзя же, чтобы он и дальше вот так тарабанил. Пойдем посмотрим с фонарем, что там с ним приключилось.
Это и в самом деле комары. Комары со всего дома и сада собрались вместе и, гудя, тучей летают над ним. Возмущенная Хризантема кидается жечь их пламенем своей лампы, а мне указывает на тех, что облепили белую бумагу стен: «У-у!»
Он же, устав за день, продолжает спать, хотя, конечно, и беспокойно. Хризантема трясет его, чтобы взять к нам, под нашу синюю сетку.
Он вяло уступает, встает, слегка капризничая, как большой непроснувшийся ребенок, и идет за нами — мне же, в общем-то, нечего возразить против такого спанья втроем: то, что мы разделяем, так мало похоже на кровать, и спим мы одетые, как всегда, по японскому обычаю. Разве в дороге, в поезде достойнейшие дамы не укладываются спать без всякой дурной мысли в присутствии случайных господ?
Вот только Хризантемину подставочку для головы я водрузил в середине газовой палатки, между нашими двумя подушками, чтобы понаблюдать за реакцией.
Она же с большим достоинством, ничего не говоря, как будто исправляя нарушение этикета, допущенное мною по ошибке, убирает ее и кладет на ее место мой барабан из змеиной кожи: таким образом, я буду лежать посередине, между ними. Так и в самом деле правильнее. Ох! Это решительно хорошо — а Хризантема отлично умеет себя вести…
…На другой день в семь часов, возвращаясь на корабль под яркими лучами утреннего солнца, мы шагаем по росистым тропкам вместе с гурьбой маленьких совершенно уморительных мусме шести — восьми лет, направляющихся в школу.
Цикады, разумеется, провожают нас своей славной музыкой. В горах хорошо пахнет. Свежесть воздуха, свежесть света, детская свежесть этих маленьких девочек в длинных платьях с прекрасно уложенными волосами. Свежесть травы и цветов, по которым мы ступаем, усеянных капельками воды… Как же вечно прелестны, даже в Японии, эти сельские утра, эти утра человеческой жизни…
Впрочем, я признаю обаяние японских детишек; среди них есть просто очаровательные. Но как же так получается, что это их обаяние так быстро превращается в старческую гримасу, в улыбчивое безобразие, в мордочку обезьяны?..
XXXV
Садик госпожи Лютик — моей тещи, — бесспорно, одно из самых унылых мест, которые мне довелось встретить во время моих странствий по свету.
Ох! До чего же медленно тянутся и как сильно действуют на нервы эти серые часы, отдаваемые банальным, невнятным разговорам за едой варенья с перцем в крошечных чашечках, на веранде, тускло освещенной светом из садика! И этот зажатый между стенами в самом центре города парк в четыре квадратных метра, с маленькими озерцами, маленькими горами и маленькими скалами; и этот зеленоватый налет дряхлости, бородатая плесень на всем, что никогда не видало солнечных лучей.
Правда, этому микроскопическому воспроизведению дикого уголка не откажешь в чувстве природной естественности. Скалы хорошо расположены. Карликовые кедры, ростом не выше капусты, простирают над долиной свои узловатые ветви с видом утомленных веками гигантов, и при виде этих больших деревьев происходит обман зрения, нарушается перспектива. Когда из темной глубины дома смотришь с некоторого расстояния на этот относительно освещенный пейзаж, почти спрашиваешь себя, правда ли он искусственный, или же ты сам — игрушка какой-то болезненной иллюзии, а это настоящая природа, увиденная расстроенным, по-особенному сфокусированным глазом или же в перевернутый бинокль.