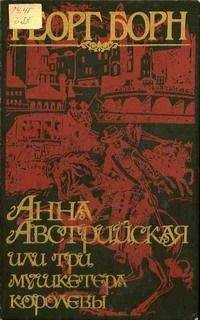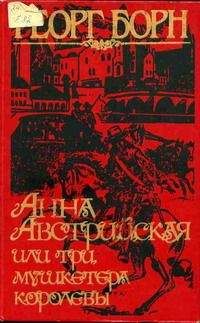Шарль Далляр - Анна Австрийская. Первая любовь королевы
Ришелье, погрузившись в размышления, самодовольно вспоминал сцену, разыгранную им в этот вечер пред королевой. Он был убежден, что он преуспел; королева обращалась с ним совсем не так, как обыкновенно. Вместо холодности, которую она всегда показывала к нему, она была с ним почти любезна. Она улыбнулась, когда увидела его, захохотала, когда он стал танцевать, потом выслушала без гнева довольно прозрачные слова, которыми он старался растолковать ей свои чувства. Он осмелился поцеловать ее руку, и рука эта не была отнята. Подобная благосклонность такой женщины, как Анна Австрийская, равнялась успеху.
Когда кардинал дошел до этого места в своих размышлениях, он распахнул рясу и обвел все свои члены самодовольным взглядом. Он приписывал своему успеху непреодолимое действие, произведенное взглядом на его формы, так благоприятно выставленные костюмом Панталоне.
— Герцогиня де Шеврез была права, — прошептал он, — я никогда не победил бы предубеждения Анны Австрийской, если б не решился показаться ей в другой одежде.
Он встал и задумчиво прислонился к углу камина.
— Она опять права, — продолжал он, помолчав несколько минут, — настаивая, чтобы я немедленно написал к королеве. Зайдя так далеко, я останавливаться не могу. Да, я должен написать, и напишу.
Он взял с камина серебряный колокольчик и позвонил. Портьера в углу кабинета тотчас приподнялась, и явился лакей.
— Аббат вернулся? — спросил Ришелье.
— Вернулся, — отвечал лакей.
— Позовите его ко мне сейчас.
Лакей колебался.
— Аббат де Боаробер не в состоянии явиться сегодня к вашему преосвященству, — сказал он наконец.
— Он пьян?
— Не совсем.
Ришелье сделал движение нетерпения.
— Все равно, позовите его, и если он считает себя слишком пьяным, чтобы меня понять, пусть образумится в холодной ванне.
Лакей вышел. Не прошло и пяти минут, как портьера приподнялась, и вошел аббат Метель де Боаробер, один из будущих основателей Французской академии, друг если неизвестный, то, по крайней мере, самый преданный и самый короткий, кардинала Ришелье. Доказано, что аббат де Боаробер, или из равнодушия к людям, или из лености, не играл никакой роли в министерстве кардинала, но пользовался его полным доверием и часто разделял самые тайные его планы. Все записки того времени говорят о нем одно и то же, то есть что он был игрок, пьяница, развратник, но самый веселый и самый добрый человек на свете. Он был толст, румян, имел большой живот, тройной подбородок и отвислые щеки.
Слуга, посланный за ним, не солгал. Аббат, войдя в кабинет, где ждал его кардинал, был еще пьян. Но как закоренелый пьяница, он крепко держался на своих коротеньких ножках, и мысли его были так свежи, как будто он целый месяц пил одну воду.
— Ваше преосвященство, вы меня спрашивали? — сказал он, не совсем внятно произнося слова. — Не в дурном ли вы расположении духа и не хотите ли для развлечения позаимствоваться веселостью Боаробера?
— Нет, аббат, — ответил Ришелье, устремив на толстяка проницательный взгляд, — я не расположен сегодня забавляться вашими площадными шуточками, я хочу только узнать, прежде чем скажу вам что-нибудь, в состоянии ли вы выслушать и понять меня. Вы совсем еще пьяны?
— Наполовину. А что касается, способен ли я слышать и понять, ваше преосвященство оскорбляет меня, сомневаясь в этом. Мысли мои никогда не бывают яснее, как в то время, когда я выпил пять или шесть бутылок молочка Генриха IV. Если бы вы, ваше преосвященство, попробовали этого средства только один раз, вы непременно повторили бы его.
— Довольно, — сказал Ришелье с жестом отвращения.
— Напрасно ваше преосвященство пренебрегает бутылкой и своими друзьями, — продолжал аббат с той свободою в обращении, которую кардинал позволял ему одному, — а сегодня вам еще менее обыкновенного следует ставить в преступление, что я напился, потому что если я половину вина выпил для своего удовольствия, то другую половину выпил для вас.
— Это как? — спросил Ришелье.
— Ваше преосвященство, вы приказали мне, ввиду будущих планов, которые вы не заблагорассудили сообщить мне, войти как можно более в доверие к его высочеству герцогу Анжуйскому.
— Это правда.
— Я не нашел ничего лучше для того, чтобы достигнуть этого, как вступить в орден Негодяйства, гроссмейстером которого является принц.
— Я это знаю.
— Меня приняли единогласно.
— Это меня не удивляет.
— По той причине, что Общество Негодяев было бы неполно, если бы не считало в своих рядах аббата де Боаробера, самого негодного из всех аббатов? Вы, ваше преосвященство, правы и отдаете мне справедливость. Сегодня вечером было собрание членов ордена Негодяйства. Обедали, и обедали хорошо. Когда я вышел из-за стола, я был наполовину пьян. Для моего ли это удовольствия?
— Нет, аббат, я сознаюсь, что это было для меня.
— Это очевидно. После обеда его высочество, Рошфор, мой любезный товарищ аббат де ал Ривьер, Морэ, Монморанси и несколько других отправились стаскивать плащи с прохожих на Новом мосту и приглашали меня, но я не люблю этого упражнения, где нечего ни попить, ни поесть, и вспомнил, что я приглашен на ужин к одному достойному прокурору, где превосходный стол; у него-то я напился окончательно, и на этот раз для моего удовольствия, в этом я не отпираюсь.
— Довольно логичное рассуждение для пьяницы.
— Пьяницы! Это слово может быть немножко жестко, но оно мне льстит. Теперь я слушаю, что ваше преосвященство сообщит мне.
Ришелье знал аббата. Он знал, что голова его оставалась здравою, а мысли ясными там, где всякий другой потерял бы рассудок. Он сделал ему повелительный знак, требовавший внимания, и заговорил почти вполголоса:
— Боаробер, я решился написать к королеве и открыть ей в этом письме мои чувства.
Аббат отступил на шаг. Его маленькие глазки засверкали и взглянули на кардинала с глубоким изумлением.
— Написать ее величеству? — повторил он.
Он поднял руки к потолку и потом опустил их на свой круглый живот.
— Я решился на это.
— Позвольте же мне сказать вам со всем уважением, которое я обязан оказывать вашему преосвященству, что, наверно, вы сегодня обедали и пили больше меня и что сверх того у вас голова слабее моей.
Кардинал скрыл улыбку.
— Вы считаете это сумасбродством, аббат?
— Я не смел сказать вам этого.
— И вы заранее рассчитываете опасность подобной переписки с такой женщиной, как Анна Австрийская, не правда ли?
— Расчетов больших не нужно, чтобы понять опасность отдавать в руки врага подобное оружие.