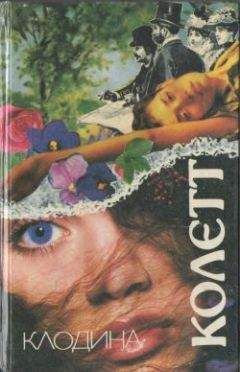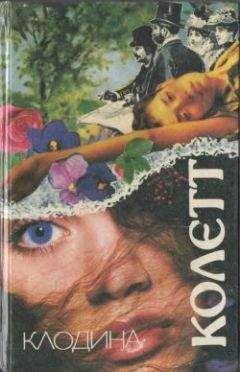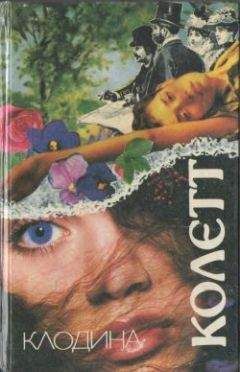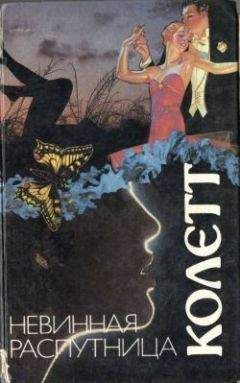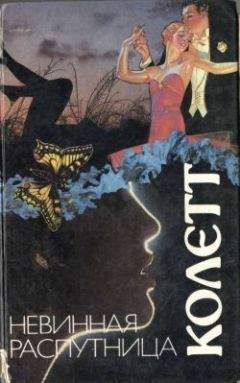Сидони-Габриель Колетт - Клодина в Париже
– О! Видно, это музыка вызвала у вас такое пышное красноречие?
– Да. В сущности, за этим лбом мыслителя скрывается душа молодой девушки.
Его аспидного цвета глаза, снисходительные и ленивые, улыбаются мне, и улыбка эта успокаивает меня и внушает доверие. В это время его сын, который слишком уж старается всем угодить, спешит поздороваться с мамашей Барманн: она разглагольствует, вынося решительные приговоры, среди группки мужчин.
– Бежим, скорей бежим, – испуганно умоляет меня Дядюшка. – Если только мы попадем в её орбиту, она станет нам цитировать последний социальный афоризм «своего знаменитого друга»!
– Это какой знаменитый друг? Тот, о котором она говорила у тёти Кёр в прошлое воскресенье?
– Это Гревей, очень модный академик, которому она предоставляет субсидии, квартиру и пищу. Прошлой зимой мне случалось ещё обедать в том доме, и у меня осталось впечатление весьма деликатного свойства: великий человек, расположившийся перед камином в стиле Людовика Тринадцатого, простодушно подставляет огню два незастёгнутых ботинка…
– Почему незастёгнутых? (Я задаю этот вопрос, ловко разыгрывая наивность.)
– Чёрт побери, потому что он только что… Клодина, вы совершенно невыносимы! Конечно, это мой промах! Просто я не привык иметь дело с маленькими девочками. Я ведь совсем недавно стал дядей. Но отныне я буду начеку.
– Тем хуже! Тогда это будет не так забавно.
– Молчите, маленькое чудовище! Вы, которая читает всё, знаете ли вы, кто такой Можи? О, я как раз вижу его внизу.
– Можи? Да, он ведёт музыкальную критику, пишет статьи, где всего наворочено – и грубости, и каламбуры, какая-то мешанина жеманства и лиризма, в которой я никогда ничего не могу понять…
– «Жеманство и лиризм»! Бог мой, ну и забавная же у меня племянница! А знаете, суждение не совсем глупое. Да, я буду получать истинное наслаждение, вывозя вас в свет, моя пташка!
– Премного вам благодарна! Но если я правильно понимаю ваши слова, значит, сегодня вы меня «вывезли в свет» из чистой вежливости?
Мы подходим к этому пресловутому Можи; он оживлённо спорит каким-то гортанным, легко прерывающимся голосом и, как мне кажется, сейчас находится в своей лирической фазе. Я подхожу поближе. Он, конечно, изливает лирические восторги? Разлетелась (как говорят у нас упавшему ребёнку)… Вот что я слышу:
– Ну как, сумели вы насладиться этим свинским тромбоном, лаявшим среди роз этой ночи грёз? Если Фауст продолжает спать, несмотря на весь этот галдёж, то, должно быть, потому, что читал «Плодородие», прежде чем завалиться в постель. Да, впрочем, и весь этот оркестр до того дерьмовый! Есть там такая мразь, маленький флейтист, который не в состоянии в этом сифилитическом балете исполнить свою проклятущую ноту одновременно с какими-то там обертонами арф; попадись он только мне, я бы заставил его сунуть свой инструмент в…
– Друг мой, друг мой, – мягко журчит голос Дядюшки прямо в спину этому припадочному, – если вы будете продолжать, то утратите всякую сдержанность в определениях!
Можи разворачивает свои толстые плечи, и перед нами возникает короткий нос, выпуклые голубые глаза под тяжёлыми веками, большие свирепые усы над детским ртом… Ещё весь клокочущий от праведного гнева, со сверкающими, как иллюминаторы, глазами и налившейся кровью шеей, он похож на какого-то бычка и на какое-то земноводное. (Уроки естественной истории, полученные в Монтиньи, пошли мне на пользу.) Но он уже приветливо улыбается, и, когда кланяется, выставляя напоказ розовую лысину слишком больших размеров, я замечаю, что нижняя часть его лица – вялый подбородок, утонувший в складках жира, и младенческие губы – никак не сочетается с энергичным напором широкого лба и короткого своевольного носа. Меня знакомят. И сразу же Можи спрашивает:
– Старый дружище, почему вы привели мадемуазель в это довольно сомнительное место? Когда так прекрасно в Тюильри играть в серсо…
Чувствуя себя уязвлённой, я молчу. Достоинство, с которым я стараюсь держаться, очень забавляет обоих мужчин.
– А ваш Марсель здесь? – спрашивает критик дядю.
– Да, он пришел со своей тётушкой.
– Как? – подскакивает. Можи. – Он уже открыто показывается со своей…[4]
– Клодиной, – поясняет Дядюшка, пожимая плечами. – Клодиной, которая здесь перед вами и которая является его тётушкой. У нас весьма сложная структура семьи.
– Ах вот как! Значит, мадемуазель, вы тётушка Марселя? Существуют некие предначертания!
– Вы, верно, полагаете, что это забавно! – бурчит мой Дядюшка, раздираемый между желаниями рассмеяться и поворчать.
– Каждый действует в меру своих возможностей, – отзывается Можи.
Что это означает? За этим скрыто что-то, чего я не понимаю.
Мимо нас проходит прекрасная киприотка госпожа ван Лангендонк в сопровождении шестерых мужчин: каждый из этих шестерых кажется одинаково влюблённым в неё, и она по очереди ласкает каждого из них взглядом восторженной газели.
– Какое восхитительное создание! Не правда ли, Дядюшка?
– Конечно. Одна из тех женщин, присутствие которых необходимо, когда принимаешь гостей. Она служит украшением приёма и завлекает гостей.
– И, – добавляет Можи, – пока мужчины поглощены её созерцанием, они забывают пожирать бутерброды и пирожки.
– С кем вы сейчас поздоровались, Дядя?
– С трио высочайшей пробы.
– Такой же, как трио Сезара Франка, – вставляет Можи.
Дядя продолжает:
– Трое друзей, которые никогда не расстаются, их всегда принимают всех вместе, было бы жаль их разлучать. Они прекрасны, честны и, вещь совершенно невероятная, предельно порядочны и деликатны. Один из них сочиняет музыку, вполне оригинальную, прелестную музыку; другой, тот, что сейчас разговаривает с принцессой де С. её исполняет, поёт с мастерством большого артиста, а третий, слушая их, делает изящные, великолепные зарисовки.
– Будь я женщиной, – заключил Можи, – я хотел бы выйти замуж за всех троих!
– Как их имена?
– Их почти всегда услышишь вместе: Бавиль, Бреда и Делла Сюжес.
Дядюшка, когда они проходят мимо, обменивается приветствиями со знаменитым трио, на которое так приятно смотреть.
Один истинный Валуа, заблудившийся среди нас, тонкий, породистый, как геральдическая борзая, – это Бавиль; красивый здоровяк с голубыми глазами и синяками под ними, с очаровательным женским ртом – Бреда, тенор; а этот высокий, кажущийся беспечным, Делла Сюжес, в облике которого сохраняется что-то восточное – в матовом цвете лица, остром рисунке носа, – с серьёзным видом, как послушный ребёнок, смотрит на проходящих мимо людей.