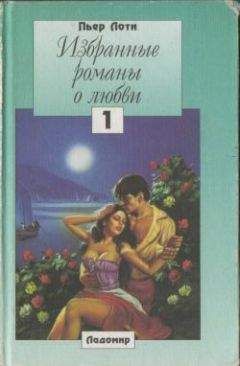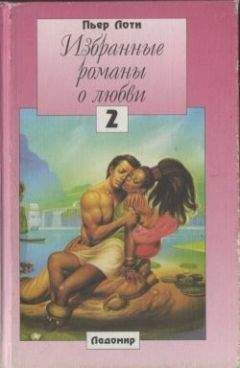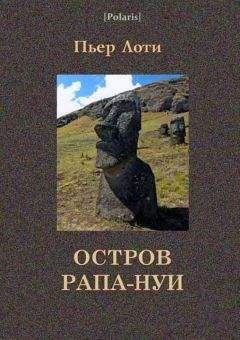Пьер Лоти - Невольница гарема
Дворец Долмабахче в Стамбуле. Фото 1856 г.
Я одевался, собираясь на бал в посольство. Самуил попрощался со мной и пошел спать, но тотчас вернулся и постучал в мою дверь.
– Бир мадам кеди, – сказал он с испуганным видом, – бир мадам кеди (мадам кошка) ки портате се пикколос дормир ком Самуил (принесла своих котят спать с Самуилом)!
И продолжал, не глядя на меня, с невозмутимой серьезностью:
– В моей семье считают, что если кто разорит кошачий дом, тот в течение месяца должен умереть! Господин Лоти, что мне делать?
Покончив со своим туалетом, я решил помочь своему другу и пошел в его комнату.
Мадам Кеди действительно расположилась на подушке Самуила, в самой ее середине. Это была дородная рыжая особа. С горделивым и величественным видом она сидела на своем непомерно широком заду и по очереди переводила взгляд с оцепеневшего Самуила на котят, резвившихся на одеяле.
Самуил, у которого слипались глаза, с обреченным видом следил за этой семейной сценой, ожидая избавления от одного меня. Я не был знаком с этой мадам Кеди, однако мне не составило никакого труда посадить кошку на плечо и вместе с котятами вынести из комнаты. После этого Самуил, тщательно вытряхнув свое одеяло, сделал вид, что ложится спать.
Я не собирался в эту ночь возвращаться домой, однако мои планы неожиданно изменились, и в два часа ночи я был дома.
Самуил широко распахнул окно своей комнаты и натянул веревки, на которые повесил свои одеяла, чтобы выветрить кошачий запах. Сам же устроился в моей кровати, что было пределом его мечтаний, и спал сном младенца.
На следующий день мы узнали, что мадам Кеди – любимое, хотя и легкомысленное создание – принадлежит старому еврею, валяльщику фесок, живущему по соседству.
XXXIНаступило греческое Рождество; в старом Фанаре – праздник.
Стайки ребят бегают с фонариками и бумажными ласточками всех фасонов и расцветок; они стучат изо всей силы во все двери и под аккомпанемент барабана поют ужасающие серенады.
Ахмет, который не разлучается со мной, выражает величайшее презрение к этим развлечениям неверных.
Старый Фанар даже в разгар празднеств сохраняет свой мрачный облик. Тем не менее маленькие византийские двери, обглоданные временем, приоткрываются, и в проемах появляются молодые девушки, одетые как парижанки; они бросают музыкантам медные пиастры.
Гораздо хуже проходит праздник в Галате; никогда ни в одной стране мира я не слышал более страшной какофонии и не видел более жалкого спектакля.
Это невообразимая мешанина людей всех национальностей, в которой большинство составляют греки. Грязные толпы стекаются отовсюду; их извергают улочки, промышляющие проституцией, кофейни, таверны. Невозможно представить себе, сколько там пьяных мужчин и женщин, какие раздаются хмельные выкрики, омерзительные вопли.
Попадаются там и правоверные мусульмане, пришедшие посмеяться над гяурами, посмотреть, как византийские христиане, судьбой которых так патетически пытались разжалобить Европу, празднуют рождение своего пророка.
Все эти люди больше всего на свете боятся, что их пошлют сражаться наравне с турками, коль скоро конституция пожаловала им незаслуженное звание граждан турецкого государства, но пока они поют и веселятся от всей души.
XXXIIЯ вспоминаю ту ночь, когда байкуш (сова) следовала за нашей лодкой по Золотому Рогу.
Это была холодная январская ночь, ледяной туман окутывал очертания Стамбула и падал мелким дождем на наши головы. Мы с Ахметом гребли по очереди, и лодка несла нас к Эюпу.
У причала Фанара мы, принимая все меры предосторожности, высадились в черную ночь среди свай, отбросов и множества лодок, окутанных тиной.
Мы находились у подножия старых стен византийского квартала Константинополя, в месте, которое вряд ли кто посещает в подобный час. Однако мы увидели двух женщин, прижавшихся друг к другу, две тени с белыми головами, которые прятались в темном уголке, уже хорошо нам знакомом, под балконом разрушенного дома… Это были Азиаде и старая верная Кадиджа.
Азиаде села в нашу лодку, и мы тронулись.
Причал Фанара от причала Эюпа отделяет немалое расстояние. Время от времени редкий огонек, выбивающийся из греческого дома, оставлял на черной воде, в кромешной тьме ночи желтый след.
Проплывая мимо старинного дома, окованного железом, мы услышали звуки оркестра. Это был один из больших жилых домов, черных снаружи, роскошных внутри, где коренные греки, фанариоты, прячут свои богатства, свои бриллианты и свои парижские туалеты.
…Шум празднества утонул в тумане, и мы снова погрузились в тишину и мрак.
Какая-то птица тяжело кружила вокруг нашей лодки, то отставая, то снова нас догоняя.
– Бу фена (плохо дело)! – сказал Ахмет, не поворачиваясь.
– Байкуш? (Это сова?) – спросила Азиаде, закутанная с ног до головы в покрывало.
Когда речь шла об их верованиях и предрассудках, они обычно разговаривали только друг с другом, совершенно не принимая меня в расчет.
– Бу чок фена, Лоти, – сказала она наконец, взяв меня за руку, – амма сен… билмешин. (Это очень плохо, Лоти, но ты… ты не поймешь!..)
Было как-то странно смотреть, как жуткая птица кружит в зимней ночи; она сопровождала нас более часа, пока мы шли от причала Фанара к причалу Эюпа.
В эту ночь в Золотом Роге дул ужасный ветер; мелкий ледяной дождь не переставал. Наш фонарь погас, и мы могли нарваться на башибузуков, а это грозило обернуться бедой для всех троих.
На траверсе Балата нам повстречались лодки с иудеями. Иудеи, заселившие в этом месте оба берега, Балат и Пири-Пашу [50], навещают в этот вечер соседей или возвращаются из главной синагоги, и лишь на этом участке можно обнаружить в эту ночь какое-то движение.
Проходя мимо нас, они пели жалобные песни на своем иудейском языке. Сова продолжала свои пируэты над нашими головами, а Азиаде плакала от холода и страха.
Что это была за радость, когда мы бесшумно, в глубокой темноте пришвартовали нашу лодку у причала Эюпа! Спрыгнуть в тину, перебраться по дощечкам на берег (мы знали эти дощечки как свои пять пальцев), пересечь маленькую пустовавшую площадь, беззвучно открыть запоры и замки и снова закрыть их за собой; окинуть беглым взглядом темные комнаты первого этажа, проход под лестницей и кухней, сбросить обувь, в которой чавкала грязь, и промокшую одежду; ступить босиком на белые циновки, пожелать спокойной ночи Ахмету, ушедшему к себе; войти в нашу комнату и запереть ее на ключ; задернуть за собой арабскую красно-белую портьеру; сесть на пушистый ковер перед медной жаровней, хранившей жар с утра и испускающей теперь приятное тепло, смешанное с серальскими благовониями и запахом розовой воды… все это давало, по крайней мере на двадцать четыре часа, ощущение надежного приюта и бесконечное счастье – быть вместе!