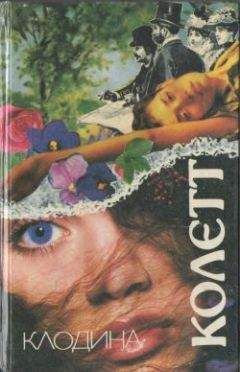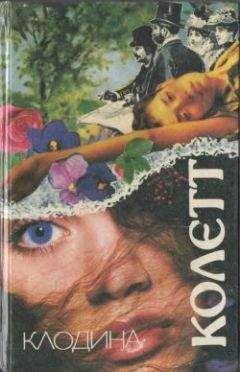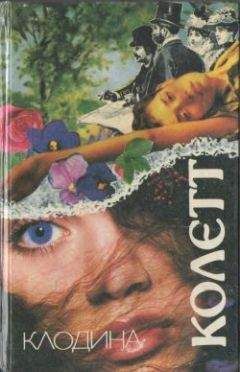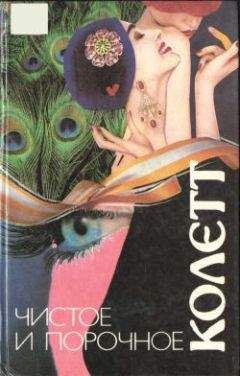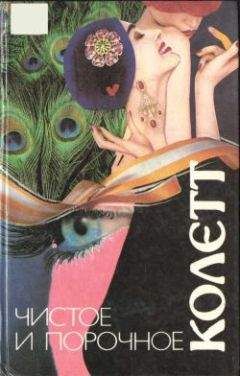Сидони-Габриель Колетт - Клодина уходит...
– Да, я действительно соврала. Я должна поговорить с Можи без свидетелей; ты мне нужна, чтобы гуляющие думали, что ты сопровождаешь нас, следишь за нами издалека, как воспитательница-англичанка. Возьми с собой книгу или вышивание, что хочешь. Вот так. Идёт? Что ты решаешь? Окажешь мне эту услугу или нет?
Я краснею за неё. Она и Можи! И она рассчитывает на меня, чтобы… о нет!
Увидев мой жест, она в бешенстве топает ногой.
– Ты дура! Уж не думаешь ли ты, что я собираюсь переспать с ним где-нибудь под кустом в парке? Пойми же, ничего у меня не ладится, деньги мне никак не даются, мне просто необходимо заставить Можи написать не одну статью о романе Леона, который появится в октябре, а две или три в иностранных журналах, они могли бы открыть нам книжные рынки Лондона и Вены! Этот пьянчуга хитёр, как сам чёрт, вот уже месяц как мы стараемся перехитрить друг друга, но я надеюсь, что сумею одержать над ним верх, иначе я… я…
Она задыхается от возмущения и даже начинает заикаться, она потрясает кулаком, лицо её странно грубеет, теперь она похожа на разъярённую торговку эпохи Революции, натянувшую на себя костюм маркизы, но вот она, сделав над собой огромное усилие, берёт себя в руки и продолжает с холодным спокойствием:
– Вот каково положение дел. Идёшь ты со мной в парк или нет? Будь я в Париже, мне не пришлось бы просить тебя о таком одолжении. В Париже умная женщина всегда сумеет выкрутиться сама! Но здесь, в этом фаланстере, где сосед по гостинице знает, сколько у вас грязных рубашек и сколько кувшинов горячей воды приносит вам в номер служанка по утрам…
– Тогда, Марта, скажи мне… ты делаешь это из любви к Леону?
– Из любви… что я делаю?
– Ну, жертвуешь собой, любезничаешь с этим субъектом… Ты делаешь всё это ради славы твоего мужа?
Она сухо смеётся и пудрит пылающие щёки.
– Ради его славы, если тебе так угодно. Лавровый венок… что ж, этот головной убор не хуже любого другого. Не ищи шляпу, она лежит на кровати.
До чего доведут меня эти женщины? Ни на одну из них не хотела бы я походить! Марта готова на всё, Каллиопа цинична, как женщина из гарема, Клодина своим бесстыдством напоминает дикого зверька со всеми его инстинктами, включая и благородные. Боже! Ты видишь, как здраво о них я сужу, сделай же так, чтоб я не стала такой, как они!
Да, я отправилась с Мартой слушать музыку, а потом мы гуляли по парку, Можи шёл между нами. В пустынной аллее Марта сказала мне просто: «Анни, у тебя на башмаке развязался шнурок». Я покорно сделала вид, что завязываю шелковый шнурок, хотя узел был в полном порядке, и не стала их догонять. Я следовала за ними издалека, глядя в землю, не смея поднять глаз, не решаясь взглянуть на их спины, до меня долетали лишь их негромкие взволнованные голоса.
Наконец Марта, возбуждённая и торжествующая, подошла ко мне, освобождая меня от этой постыдной вахты, и я с облегчением вздохнула. Она ласково взяла меня под руку.
– Всё в порядке. Спасибо, дружок. Ты очень мне помогла. Подумай только, в каком я была затруднении. Назначь я свидание Можи в парке, на молочной ферме или за одним из столиков в кафе, через пять минут к нам бы наверняка пристал какой-нибудь надоедливый господин или, что ещё хуже, какая-нибудь дама. А принять его у себя в комнате уже было опасно.
– Значит, он их тебе обещал?
– Что?
– Статьи в иностранных журналах.
– Ах, да… Да, и статьи, и всё, что я пожелаю.
Она на мгновение умолкает, обмахивается пышными рукавами и говорит как бы про себя, очень тихо:
– А он богат, этот негодяй.
Удивлённая, я смотрю на неё.
– Богат? А тебе-то что до этого, Марта?
– Я хочу сказать, – живо объясняет она, – что завидую ему: он пишет ради собственного удовольствия, ему не приходится вкалывать, как этому бедняге Леону – посмотри, как он безуспешно осаждает Каллиопу. Этот кипрский город без крепостных стен никак не желает сдаваться.
– К тому же осаждающий, возможно, не слишком хорошо вооружён, – робко вставляю я.
Марта, поражённая, останавливается посреди аллеи.
– Боже милостивый! Анни начинает говорить непристойности! Дорогая моя, я и не предполагала, что у тебя имеются такие точные сведения о Леоне.
Она весело присоединяется к группе наших общих знакомых, а я, сославшись на мигрень, возвращаюсь в гостиницу, в свою комнату, где маленький чёрный Тоби всегда покорно лежит у моих ног; меня беспокоит собственная судьба, я всем недовольна, меня унижает та некрасивая услуга, которую я оказала своей золовке.
А Ален ни о чём не догадывается! И я улыбаюсь недоброй улыбкой при мысли, что он очень плохо знает и меня, и свою любимую сестру. Я начинаю ненавидеть Арьеж, где моя собственная жизнь предстала передо мной в столь грустном свете, где весь Человеческий род, когда я сужу о нём по крошечной горстке отдыхающих, выглядит жалким и смехотворным… Мне наскучило наблюдать за ними. Утром на молочной ферме мимо меня вереницей проходит слишком много уродливых, наспех нарумяненных женщин, слишком много циничных и похотливых мужчин, похотливых или безмерно уставших, ведь там появляются и любители игры в баккара, мрачные, осунувшиеся, позеленевшие после бессонной ночи, с глазами, налитыми кровью. Они идут развинченной, вялой походкой людей, привыкших засиживаться за игорным столом до рассвета, а «шарниры», как говорит Марта, не только из-за артрита теряют свою подвижность.
У меня нет больше желания видеть, как отдыхающие пьют воду или полощут горло, как принимает душ Марта, не хочу я слушать сплетни в холле казино или вместе с Клодиной восторгаться «Свадьбой Жаннетты» – сама Клодина без ума от Дебюсси, но из какого-то непонятного садизма решила неистово аплодировать самым архаическим опереткам. Нет, я не в силах больше этого выносить: в одни и те же раз и навсегда установленные часы – одни и те же развлечения, одни и те же заботы, одни и те же примелькавшиеся лица. Когда я подхожу к окну, взгляд мой невольно устремляется на запад, где вдалеке виднеется узкое ущелье, провал в тёмной цепи обступивших нас со всех сторон гор, ущелье всё залито светом, за ним в бледно-голубом небе, небе цвета моих глаз, поднимаются сказочные, словно осыпанные перламутровой пылью высокие горы… Через это ущелье я в мыслях своих спасаюсь бегством… Там, мне кажется (а может быть, я ошибаюсь), моя жизнь сложилась бы иначе, я бы не стала безвольной куклой, именуемой Анни.
Бедный мой чёрный Тоби, куда мне тебя девать, ведь мы отправляемся в Байрет! Марта объявила мне об отъезде с такой весёлой решимостью, что я даже не стала спорить! Ба, да я возьму тебя с собой, так будет проще всего, да и честнее. Я же обещала тебе, что мы больше никогда не расстанемся. Я уже привыкла к твоему молчаливому обожанию, мне необходимо видеть рядом с моей длинной тенью твою короткую квадратную тень. Ты так любишь меня, что никогда не потревожишь мой сон, для тебя священны моя печаль и моё молчание, и я тоже люблю тебя, мой маленький чудный пёсик, мой верный страж. Мне становится весело, как в прежние юные годы, когда я вижу, как ты чинно выступаешь рядом со мной, держа в широко разинутой пасти большое зелёное яблоко, с которым ты можешь носиться целый день, или как ты упорно стараешься выцарапать когтями цветы на ковре. Ты ведь живёшь, мой милый наивный пёсик, в окружении тайн и загадок. Тайна ярких цветов на обивке кресел, лукавство зеркала, откуда за тобой следит чёрненький бульдог – твой двойник, коварство кресла-качалки, которое отступает, как только ты дотрагиваешься до него лапой… Но ты не стремишься во что бы то ни стало проникнуть в глубины этих тайн. Ты вздыхаешь, злишься иногда, а иногда сконфуженно улыбаешься и снова берёшься за своё жёваное зелёное яблоко.