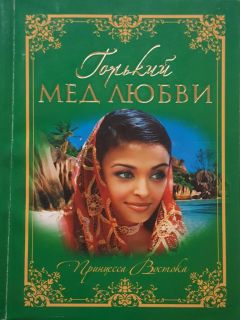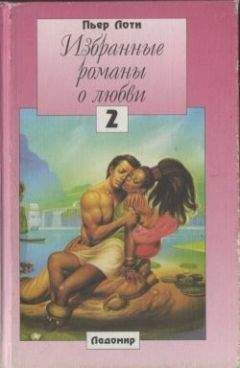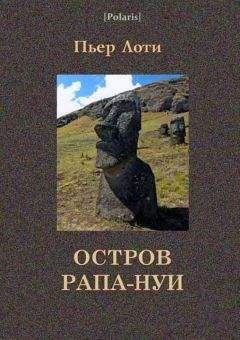Пьер Лоти - Роман одного спаги
А снятие порчи, как известно, было специальностью Самба-Латира, и вот почему Фату-гэй явилась к нему за помощью.
У Самба-Латира в самом деле имелось наготове то, что требовалось. Он достал из старого таинственного ларца красный мешочек на кожаном шнурке и повесил его на шею Фату-гэй, сказав при этом нужные слова заклинания: злой дух был тут же обезврежен.
Стоило это всего два халиса (десять франков). И спаги, вовсе не умевший торговаться даже из-за амулета, покорно заплатил сполна. Однако сразу почувствовал, как кровь ударила ему в голову, когда пришлось распроститься с этими двумя монетами, и не потому, что был жаден на деньги: он ведь так и не научился ценить их по-настоящему, но в тот момент два халиса составляли большую сумму для тощего кошелька спаги. С сожалением и раскаянием в сердце Жан говорил себе, что его старики родители наверняка отказывали себе во многих вещах, которые стоили меньше двух халисов и уж конечно были куда полезней, чем амулеты Фату.
VII
ПИСЬМО ЖАННЫ МЕРИ СВОЕМУ КУЗЕНУ ЖАНУ
«Дорогой Жан,
вот уже три года прошло с тех пор, как ты уехал, а я все жду весточки о твоем возвращении; видишь ли, я в тебя верю и твердо знаю: ты не станешь меня обманывать, но все-таки время тянется слишком медленно, по ночам иной раз меня разбирает такая тоска, и всякие мысли лезут в голову. Да и родители толкуют, что если бы ты захотел, то мог бы получить отпуск и навестить нас.
Думается мне, что есть кое-кто в деревне, кто их настраивает. Но верно и то, что наш кузен Пьер дважды приезжал домой, пока служил в солдатах.
А тут еще пошли слухи, будто я собираюсь замуж за долговязого Сюиро. Можешь себе представить? Что за глупость – выйти за круглого дурака, который строит из себя важную персону; пускай себе болтают, я-то знаю: для меня на всем белом свете нет никого, кроме моего дорогого Жана. Можешь быть спокоен, ничего страшного не случится, никто не уговорит меня пойти на танцы; и пускай думают, что я манерничаю; танцевать с Сюиро, либо с этим толстым болваном Туаноном, или еще с кем-нибудь подобным – нет уж, увольте; по вечерам я тихо-мирно сажусь на скамейку у двери Розы и все думаю, думаю о своем дорогом Жане, которого ни с кем не сравнить, где уж тут скучать, он лучше всех на свете.
Спасибо за фотографию, ты на ней все такой же, хотя многие говорят, будто здорово изменился; а я считаю, что лицо прежнее, только теперь ты смотришь на мир не так, как раньше. Я украсила твой портрет пасхальными веточками и поставила на камин, чтобы сразу видеть, как только входишь в комнату.
Дорогой Жан, я все еще никак не решусь надеть тот чудесный браслет негритянской работы, который ты мне прислал: опасаюсь Оливетты и Розы, они и так считают, что я строю из себя барышню, боюсь, будет еще хуже. Вот вернешься, мы поженимся, тогда другое дело. Тогда я стану носить и браслет, и тонкую золотую цепочку тети Тумелль, и ту, с чеканкой. Только приезжай поскорее, потому что, знаешь, я очень скучаю по тебе; иногда смеюсь вместе с другими, но зато потом нападает такая тоска, что я убегаю и горько плачу.
Прощай, мой дорогой Жан, обнимаю тебя от всего сердца.
Жанна Мери».
VIII
Кисти рук Фату, такие черные снаружи, с обратной стороны были розовыми.
Долгое время это пугало спаги: он не любил глядеть на ладони Фату, пусть маленькие, изящные, соединенные с округлой рукой тонким запястьем, вид их вызывал у него нехорошее, щемящее чувство, ему чудилось, будто это обезьяньи лапы.
В этой обесцвеченности изнутри, в пальцах, окрашенных лишь с одной стороны, было что-то нечеловеческое и потому внушало страх.
Пугали и некоторые интонации странного фальцета, вырывавшиеся у нее при сильном волнении; и еще некоторые позы, некоторые таящие угрозу жесты, наводившие на мысль о загадочном сходстве с животным.
Однако со временем Жан с этим свыкся и уже ни о чем не думал. В те минуты, когда Фату казалась ему милой и привлекательной, он со смехом любовно называл ее странным именем, означавшим на языке волоф девочка-обезьянка.
Фату страшно обижалась на дружеское прозвище и, принимая степенный вид, напускала на себя в таких случаях серьезность, забавлявшую спаги.
Однажды (в тот день стояла на редкость хорошая, пожалуй, даже мягкая погода и небо было удивительно чистым), так вот однажды Фриц Мюллер отправился в гости к Жану и, бесшумно поднявшись по лестнице, остановился на пороге.
Он от души повеселился, став свидетелем следующей сцены.
Жан с простодушной детской улыбкой на лице, казалось, тщательно изучал Фату: вытягивал ей руки, молча поворачивал ее, внимательно рассматривая со всех сторон; потом вдруг убежденно произнес:
– Ты в точности как обезьянка!..
Фату разобиделась:
– Ах, Тжан! Зачем ты говорить такое, белый господин! Ведь обезьяна не знает, как вести себя, а я знаю, и даже очень хорошо!
Тут Фриц Мюллер не выдержал и расхохотался, и Жан вместе с ним; особенно их насмешило благопристойное и добропорядочное выражение, которое Фату силилась придать лицу, всем своим видом протестуя против столь нелестных для нее сравнений.
– Во всяком случае, прехорошенькая обезьянка, – заметил Мюллер, всегда восхищавшийся красотой Фату. (Он долгое время жил в стране чернокожих и знал толк в суданских красотках.)
– Очень хорошенькая обезьянка! Если бы в галамских лесах были такие же, можно было бы свыкнуться с этой проклятущей, забытой Богом страной.
IX
Белый зал, продуваемый ночным ветром; две висячие лампы, о которые бьются крыльями обезумевшие от огня большие мотыльки-однодневки; шумное застолье одетых в красное мужчин и хлопочущие вокруг черные некрасивые женщины: торжественный ужин спаги.
Днем в Сен-Луи отмечали праздник: военный парад, смотр в казарме, конные скачки, состязания верблюдов и объезженных быков, гонки пирог – все как полагается, обычная увеселительная программа провинциального городка с небольшим дополнением, необычным, но весьма характерным для Нубии.
По улицам прошествовали в парадной форме все дееспособные солдаты гарнизона, моряки, спаги и стрелки. А также мулаты и мулатки в праздничных одеждах; престарелые синьярды Сенегала (метисы[50] высшего общества), важные и чопорные, с высокой прической, сооруженной при помощи ярких косынок, с двумя локонами по моде 1820 года; молоденькие синьярды в туалетах наших дней – смешные и уже поблекшие, пропахшие африканским побережьем. А кроме того, две-три белые женщины в свеженьких нарядах; и за ними, словно для контраста, толпа негров, увешанных амулетами и дикими украшениями: словом, Гет-н'дар в праздничном облачении.