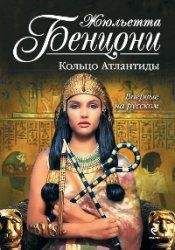Диана Хэгер - Рубин Рафаэля
Около полуночи, когда мастерская опустела и наполнилась прохладой, Рафаэль остановился перед портретом, на котором еще не просохла краска. Рядом на столе, покрытом тканью в цветных брызгах, стояла большая бутыль с вином, деревянный сосуд, в котором мыли кисти, и деревянные стаканы, где их держали. Художник замер, разглядывая портрет, потом взял кисть из жесткой кабаньей щетины, смешал на палитре коричневую и оранжево-розовую краски и стал наносить мазки на холст. Под его уверенной кистью возникала, как живая, плоть руки с просвечивающими сквозь кожу венами.
Огромная комната освещалась двумя большими масляными лампами. Пламя коптило и отбрасывало на стены танцующие тени. Рафаэль был охвачен знакомой дрожью возбуждения. Казалось, через него струилась, пульсируя, какая-то невиданная энергия. Господи, как же хорошо было снова почувствовать дерево под кистью, краски, вдохнуть их резкий запах, увидеть собственными глазами, как появляются из небытия, словно оживают, творения Самого Бога! Я снова стал писать как раньше… а мне казалось, что под тяжестью собственного имени я уже забыл, как это делается, подумал он.
Только так, в тишине и уединении, вооружась верной кистью, Рафаэль мог испить до дна чудесное, пьянящее чувство, знакомое ему с детства. Оно посещало его, когда он смотрел, как отец работает в часовне Урбино, и когда сам впервые стал брать в руки кисть. Долгая дорога отделяла его от того простого, но великого причастия – заказы, борьба за влияние, заботы о наружности, уроки танцев, фехтования и ораторского мастерства, упражнения в искусстве льстить и угождать. Теперь он стал частью этого мира и уже привык находить в нем удовольствие. Так было, пока он не оказывался, как сейчас, наедине с собой в тихие предрассветные часы, окруженный только своими кистями и красками и занятый только ими. В такую пору он вспоминал простого мальчика из небольшой деревеньки, богатого лишь талантом и мечтами. За мишурой пышных одеяний, под гнетом светской славы он по-прежнему оставался тем самым пареньком, слегка потерянным и благоговеющим перед своими успехами и сгибающимся под их тяжестью.
Рафаэль всмотрелся в лицо, которое проступало на портрете: Бальдассар Кастильоне, блестящий вельможа и писатель, с которым он подружился во Флоренции. Ему будет приятно. Портрет удивительно, сверхъестественно похож на оригинал. Это лицо обретет то же бессмертие, что и книга Бальдассара. Он еще сказал Рафаэлю, что собирается назвать ее «О придворном».
Именно этот ученый человек пробудил в Рафаэле жажду знаний. Для начала художник, не получивший систематического образования в детстве, взял почитать «Илиаду» Гомера у престарелого мудреца, который настаивал, чтобы его называли просто Бальдассаром даже неоперившиеся юнцы. За первой книгой последовали комедии Аристофана и поэмы Вергилия. Рафаэль проглотил их одним махом и при каждой встрече задавал вопросы, с интересом выслушивал мудрые и благожелательные разъяснения умудренного опытом государственного мужа касательно прочитанного и того, что еще следовало прочитать: Сократа, «Республики» Платона и сочинений Аристотеля о душе. Рафаэлю хотелось разделять понимание мира, свойственное просвещенным умам эпохи. Он хотел, чтобы это понимание отражалось в его картинах и фресках. Дружба с Кастильоне разбудила в нем тягу к познанию. Свидетельством тому была быстро растущая личная библиотека молодого живописца на Виа деи Коронари. Как и мастерская в ночные часы, это вместилище томов в кожаных переплетах стало святым местом, где Рафаэль мог размышлять о чем-то несравнимо более важном, нежели он сам.
Рафаэль взирал на доброе лицо старца. Темная чалма и плащ оттеняли его глаза, и без того притягивавшие внимание. Художник грустно улыбнулся, подумав, как не хватает ему мудрого совета. Если бы он сейчас оказался рядом, то обязательно сказал бы, что я пожадничал с работой, решил Рафаэль. Он бы обязательно попенял за то, что я слишком увлекаюсь внешним, вместо того чтобы уделить внимание внутреннему. Да, он, в отличие от моего отца, всегда считал второе важнее первого и не преминул бы мне об этом напомнить. И был бы прав.
Огонь в жаровне возле мольберта уже давно потух, оставив после себя только тлеющие угли. Давно уже было пора идти домой, но Рафаэль медлил. Им завладела удивительная, давно забытая энергия. Она захватила его целиком, смыв все чувства, кроме жгучего желания творить.
Всю ночь Рафаэль провел в укромном уголке своей мастерской. Перенеся жаровню поближе к мольберту и заперев дверь, он стоял в полном одиночестве, измазанный краской, испачканный углем и ослепленный желанием не объяснять или учить, а писать самому.
Творческий порыв иссяк ближе к рассвету, когда у него уже не оставалось сил. Оглянувшись, он увидел вокруг себя на полу кипу листов и обрывков бумаги с набросками рук, глаз, пальцев. Только присмотревшись внимательнее, он понял: это все она.
Почему Маргарита Луги так категорически настроена против него? И потом, почему это так задевает его, буквально задыхающегося от работы?
«Ты никогда раньше так не стремился заполучить натурщицу», – снова услышал он голос Джованни да Удине. Это был обрывок их разговора, состоявшегося накануне. Джованни был прав. Молодая флорентийка, с которой он писал своих ранних Мадонн, белокурая и безмятежная, позволила ему запечатлеть ее черты, получила плату за беспокойство и навсегда исчезла из его жизни.
Неужели он так расстроился из-за отказа Маргариты? Нет, конечно. Здесь было что-то еще. Рафаэлю пришлось признать, что, несмотря на известную привлекательность, Маргарита не имела ничего общего с распущенными женщинами, которых он соблазнял с завидным постоянством. Почему же тогда ему так важно убедить ее стать частью его мира? Она, определенно, была той самой Мадонной, которую он искал: это лицо, этот точеный овал, сияние ее кожи, удивительные глаза и ни с чем не сравнимое достоинство истинной Богоматери.
И она отказала ему. Причем дважды.
Взбешенный, уставший и растерянный, Рафаэль метнулся вниз и принялся рвать наброски. Первые тусклые лучи восходящего солнца падали на растерзанные в клочья плоды целой ночи упорного, вдохновенного труда.
4
Маргарита сидела на своей дубовой кровати в крохотной, скудно обставленной комнатке над пекарней. Подтянув колени к груди под жестким серым полотняным покрывалом, она смотрела на звездное небо. Даже в эту осеннюю пору в комнате было бы душно, не будь створки окна рядом с постелью приоткрыты, чтобы впустить прохладный ветерок За стеной была спальня Легации и Донато, в которой они ютились вместе с двумя младшими сыновьями. Старшие мальчики спали в комнатке на чердаке. Близкое соседство с супружеской четой многое открыло Маргарите о потаенной стороне брака. Характерные звуки и ритмы заронили в ее душу страх перед собственной свадьбой и совместной жизнью с Антонио, братом Донато.