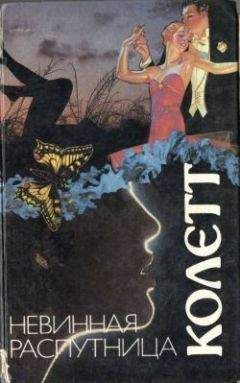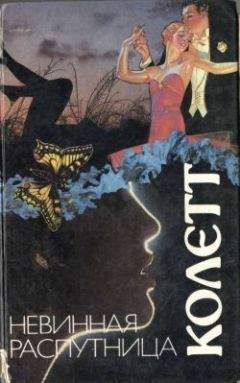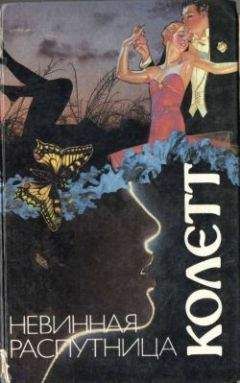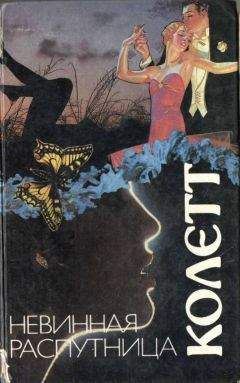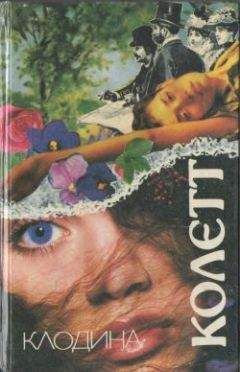Сидони-Габриель Колетт - Дом Клодины
«Пармская обитель», «Виконт де Бражелон», «Господин де Камор», «Виксфилдский священник», «Хроника времён Карла IX», «Земля», «Лорензаччо», «Парижские монстры», «Отверженные»… Стихи тоже, но реже. Подшивка романов с продолжением из «Тан», подшивка «Ревю де дё монд», «Ревю блё», «Журналь де дам э де демуазель», Вольтер, Понсон дю Террайль… Романы лежали повсюду: на мягкой мебели, в корзинке для рукоделия, мокли в саду под дождём. Моя длинноволосая сестра теперь всё больше молчала, почти не брала в рот пищу, с удивлением замечала в доме наше присутствие, вздрагивала и выходила из оцепенения, если раздавался звонок.
Мама рассердилась, стала по ночам заходить к ней, чтобы потушить лампу или конфисковать свечу; простудившись, моя длинноволосая сестра потребовала себе в спальню ночник, якобы для того, чтобы не остывала настойка, и читала при его свете. На смену ночнику пришли спички и лунный свет. После лунного света… После лунного света моя длинноволосая сестра, измождённая романической бессонницей, слегла, и горячку её не удавалось одолеть ни компрессами, ни обильным питьём.
– Это паратиф, – поставил диагноз доктор Помье.
– Паратиф? Но, доктор… Откуда? Надеюсь, это не последнее ваше слово?
Мама была удивлена, слегка задета, но ещё не обеспокоена всерьёз. Я помню, она стояла в эту минуту на крыльце и, как платочком, весело помахивала рецептом доктора.
– До свидания, доктор! До скорого! Да, да, приходите завтра!
Полненькая, подвижная мама занимала собой всё крыльцо и отчитывала собаку, не желавшую возвращаться в дом. Держа рецепт в руках, она с гримасой сомнения на лице отправилась к сестре, которую, уходя от неё, мы оставили спящей и в бреду. Теперь Жюльетта не спала, на белой постели выделялись сверкающие смоляные глаза и четыре косы.
– Сегодня не вставай, дорогая, – сказала ей мама. – Доктор Помье порекомендовал… Хочешь свежего лимонада? Хочешь, я поправлю тебе постель?
Моя длинноволосая сестра ответила не тотчас. Её раскосые глаза пристально глядели на нас, в них брезжила какая-то новая улыбка, полная желания нравиться! Несколько секунд спустя она звонко спросила:
– Это вы, Катюль?
Мама вздрогнула, приблизилась к её постели.
– Катюль? Кто это – Катюль?
– Ну, Катюль Мендес,[38] – ответил голосок сестры. – Это вы? Видите, я пришла. Я спрятала вашу светлую прядь в овальный медальон. Октав Фёйе[39] заходил сегодня утром, но какая разница! Я судила о нём по фотографии… Я страшно боюсь любимцев публики. Да и нравятся мне лишь блондины. Говорила ли я вам, что слегка подкрасила красной пастелью губы на вашей фотографии? Это из-за ваших стихов… Вероятно, эта маленькая красная точка и точит мне голову с тех пор… Нет, мы будем одни… Да я ни с кем здесь и не знакома… Это всё красная точка… и поцелуй… Катюль… Я никого здесь не знаю. Я во всеуслышание заявляю: только вы, Катюль…
Сестра смолкла, резко, как от нестерпимой боли, застонала, повернулась к стене и продолжала стонать, но уже тише, приглушённей. Одна из её круглых, блестящих, переполненных жизненной силой кос легла ей поперёк лица. Мама застыла на месте и, наклонив голову, чтобы лучше слышать, с каким-то ужасом взирала на эту незнакомку, что взывала в бреду не к ней, а к чужим людям. Затем она оглянулась, заметила меня, поспешно приказала:
– Марш вниз, – и, словно охваченная стыдом, уткнулась лицом в ладони.
МАТЕРИНСТВО
Выйдя замуж, моя длинноволосая сестра тут же уступила настойчивым уговорам со стороны мужа и его родни и прекратила с нами всякие отношения: в это же время распался сомнительный круг нотариусов и поверенных в делах. Мне было одиннадцать-двенадцать лет, и я ничего не понимала в выражениях типа: «недальновидная опека», «непростительное мотовство», – произносимых применительно к моему отцу.[40] Последовал разрыв между молодожёнами и моими родителями. Для братьев и меня это почти ничего не меняло. Сидела ли моя сводная сестра – грациозная и хорошо сложённая девушка с калмыцкими чертами лица, отягощённая волосами и, словно цепями, нагруженная косами, – по целым дням взаперти или уединялась с мужем в соседнем доме – нам было всё равно. Правда, мои братья и вдали ощутили, хотя и в ослабленном виде, волны, вызванные драмой, привлёкшей внимание всей округи. В большом городе семейная драма развивается подспудно, её участники вольны бесшумно расшибать себе лбы. Но деревня, весь год пребывающая на голодном пайке и в состоянии покоя, обманывающая свой голод с помощью постных сплетен о браконьерах и чьих-то похождениях, неумолима, когда подвёртывается настоящая добыча, и никто из её жителей из милосердной деликатности не отвернёт голову, проходя мимо жертвы золотого тельца, меньше чем за день лишившейся из-за него своей дочери.
Мы стали притчей во языцех. По утрам в мясную лавку Леоноры выстраивалась очередь, чтобы взглянуть на мою маму и вынудить её хоть немного излить душу. Люди, ещё накануне не отличавшиеся кровожадностью, рвали на части несколько оброненных ею слезинок, несколько исторгнутых ею, по-матерински возмущённой, жалоб. Домой она возвращалась измочаленная, запыхавшаяся, как уходящий от погони зверь. В кругу семьи, рядом с мужем и младшей дочерью, она вновь преисполнялась мужества и бралась за обычные дела: крошила хлеб для кур, поливала жаркое на вертеле, во всю силу своих прекрасных ручек сбивала ящичек для кошки, готовой окотиться, желтком с ромом мыла мне голову. Для облегчения своего горя она измыслила одну жестокую штуку, к которой иногда прибегала: пение. По вечерам она поднималась на второй этаж, чтобы самой закрыть ставни и взглянуть на сад и дом, где теперь жила моя старшая сестра; у наших садов была общая стена. Маме видны были клубничные грядки, посадки яблонь в форме «кордон», кусты флоксов, три ступеньки, ведущие к крыльцу-террасе, уставленному кадками с апельсиновыми деревьями и тростниковыми креслами. Как-то вечером – я стояла позади мамы – на одном из этих кресел мы узнали фиолетовую с золотом шаль, появившуюся у нас в доме в последнее выздоровление моей длинноволосой сестры. Я вскричала: «Смотри! Шаль Жюльетты!» – но не получила ответа. Когда же мама закрыла все ставни и ушла, вместе с её шагами в коридоре смолк какой-то странный отрывистый звук, похожий на задушенный смешок. Прошли месяцы, всё оставалось по-прежнему. Неблагодарная дочь жила под своей крышей, проходила мимо нашего крыльца, словно аршин проглотила, однако, стоило ей невзначай завидеть маму, она убегала, словно боялась получить пощёчину. Я без волнения встречалась с ней, удивляясь лишь, какой чужой она стала в этих своих незнакомых шляпках и новых нарядах.