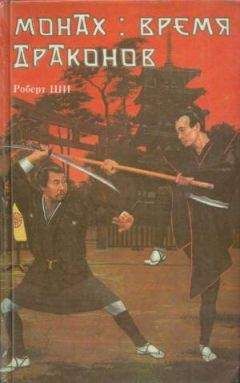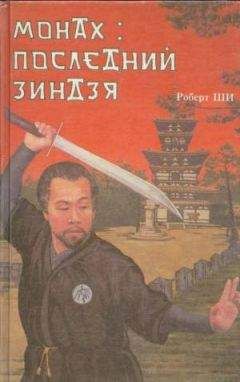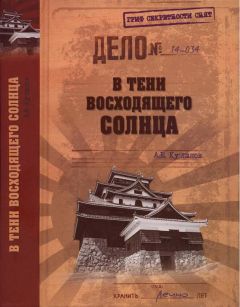Сидони-Габриель Колетт - Клодина замужем
– Могу я предстать в таком виде перед вашими гостями?
– Да, да, я тебя обожаю в чёрном.
– Чёрт побери! Вы меня обожаете в любом цвете.
– Особенно в телесном, что верно, то верно… Идём скорее!
В кабинете уже порядочно накурено, пахнет чаем и имбирём, а эта клубника, эти сандвичи с ветчиной, с печенью, с икрой… как скоро это начинает смахивать на ночной ресторан в натопленной комнате!
Я сажусь и «изображаю гостью». Муж наливает мне чаю, как последней прибывшей, а хорошенькая киприотка с невероятным именем, госпожа ван Лангендонк, подаёт сливки. В добрый час!
Я встречаю у… Рено малознакомых людей, мельком виденных на концертах и в театре: крупных критиков и не очень крупных; одни с жёнами, другие с любовницами. Превосходно. Я настояла на том, чтобы муж не производил чистку (отвратительное слово! И то, что оно обозначает, было бы так же некрасиво.). Но, повторяю, это не мой приём.
У Можи в руке большой бокал, в котором вместо вина – кюммель; он с блеском разыгрывает заинтересованность, расспрашивая автора феминистского романа, и тот излагает тему, получившую развитие в его новой книге; интервьюируемый говорит без остановки; слушатель без остановки пьёт. Основательно набравшись, он наконец спрашивает, еле ворочая языком:
– И как называется это мощное творение?
– Я ещё ни на чём определённом не остановился.
– И правильно! Главное – не останавливаться… И он отходит на негнущихся ногах.
Из многочисленного клана иностранцев я выуживаю испанского скульптора; у него красивые лошадиные глаза, чётко очерченный рот, он сносно говорит по-французски и занимается по преимуществу живописью.
Я честно ему признаюсь, что плохо знаю Лувр и, пребывая в невежестве, не горю желанием из него выходить.
– Вы не знай Рубенс?
– Нет.
– И не хотеть его видеть?
– Нет.
Услыхав такое, он встал, приосанился и с почтительным поклоном выпалил:
– Вы свинья, мадам.
Красивая дама, имеющая отношение к Опере (и к одному из приятелей Рено), подпрыгивает и смотрит на нас во все глаза в надежде на скандал. Не получит! Я отлично поняла этого транспиренейского эстета, владеющего одним-единственным пренебрежительным термином. Он знает слово «свинья»; у нас ведь лишь одно слово для выражения понятия «любить» – и это не менее нелепо.
Входит ещё кто-то, и Рено восклицает:
– Я думал, вы в Лондоне! Стало быть, уже продали?
– Да. Мы живём в Париже, – отвечает немолодой голос с едва уловимым английским акцентом.
Я вижу светловолосого господина, высокого и коренастого, который держит прямо маленькую квадратную голову; у него мутно-голубые глаза. Как я уже сказала, он коренаст, элегантно одет, но в нём чувствуется напряжение, словно он постоянно думает о том, что должен держаться прямо и выглядеть солидно.
Его жена… нас представляют друг другу, но я не расслышала её имени. Я пристально её разглядываю и скоро понимаю, в чём, по-видимому, заключается её очарование: каждым своим жестом – покачиванием бёдер, наклоном головы, стремительным взлётом руки, поправляющей волосы, круговыми поворотами туловища, когда сидит, – она описывает кривые, настолько близкие к кругу, что я прочитываю их рисунок: переплетающиеся кольца, безупречные спирали морских раковин, прочерченные в воздухе её мягкими движениями.
Её опушённые длинными ресницами глаза, янтарно-серые, изменчивые, кажутся более тёмными, оттого что её лицо обрамляет лёгкая золотая шевелюра; волосы у неё волнистые и как бы подёрнутые патиной. Платье из роскошного чёрного бархата строгого покроя облегает округлые подвижные бёдра; талия у неё тонкая, однако корсета, кажется, нет. Длинная брильянтовая булавка с головкой в виде небольшой звёздочки сверкает у неё на шляпе.
Она вынимает из лисьей муфты и порывисто подаёт мне тёплую руку, оглядывая меня с ног до головы. Не заговорит ли она с иностранным акцентом? Не знаю, чем это объяснить, но, несмотря на её безупречное платье, отсутствие драгоценностей, даже просто нитки жемчуга, она кажется мне иностранкой с сомнительной репутацией. У неё «нездешние» глаза. Она говорит… послушаем… без малейшего акцента! Как глупо предаваться пустым фантазиям! Её свежий ротик, маленький, когда она молчит, становится вдруг ярким и соблазнительным. Из него сейчас же сыплются любезности:
– Очень рада с вами познакомиться; я была уверена, что вашему мужу удастся отыскать прелестную жену, которая всех удивит и заставит в себя влюбиться.
– Спасибо за тёплые слова о моём муже. Не могли бы вы теперь сказать комплимент, который будет иметь отношение только ко мне?
– Это зависит от вас. Соблаговолите лишь быть ни на кого не похожей.
Она почти неподвижна, позволяет себе весьма сдержанные жесты, но ради такой малости, как право сесть рядом со мной, лезет из кожи вон.
Любопытно, как можно определить наши отношения: как любезные или как враждебные? Скорее любезные; несмотря на её недавнюю лесть, я не испытываю ни малейшего желания её обидеть: она мне нравится. Наблюдая её вблизи, я считаю все её спирали, многочисленные кривые; её послушные волосы колышутся у неё на затылке; её нежное ушко делает сложный виток, а лучистые ресницы и подрагивающий плюмаж шляпы тоже будто вращаются сами по себе.
Меня так и подмывает спросить, сколько кочующих дервишей, гордо качавшихся в седле, она насчитывает в своём роду. Впрочем, не стоит: Рено был бы недоволен. Да и зачем с самого начала шокировать эту прелестную госпожу Ламбрук?
– Рено вам рассказывал о нас? – спрашивает она.
– Никогда. А вы давно знакомы?
– Ещё бы!.. Мы ужинали вместе по меньшей мере раз шесть. Я уж не говорю о званых вечерах.
Она смеётся надо мной? Насмешлива она или глупа? Увидим позже. Сейчас меня чарует её неспешная речь, её ласковый голос; время от времени она как бы запинается, старательно выговаривая непослушные французские слова.
Я её не перебиваю, а она не сводит с меня взора; она в упор разглядывает меня безо всякого стеснения близорукими глазами, отмечая про себя, что зрачки у меня – в тон волосам.
Она рассказывает о себе. Четверть часа спустя я уже знаю, что её муж – бывший английский офицер, раздавленный и опустошённый Индией, где он растерял все свои силы и умственные способности. Теперь его импозантная внешность – лишь оболочка. Гостья даёт это понять весьма недвусмысленно. Я знаю, что она богата, но «всегда недостаточно», – горячо уверяет она; от своей матери-венки она унаследовала красивые волосы, кожу, подобную лепесткам белого вьюнка (я цитирую), и имя – Рези.
– Рези… ваше имя пахнет резедой…
– Здесь – да. Однако мне кажется, что в Вене оно встречается так же часто, как в Париже – какая-нибудь Нана или Титин.