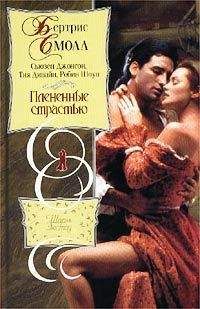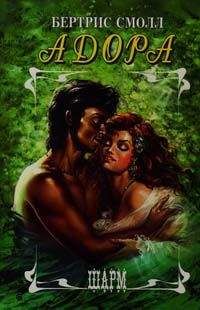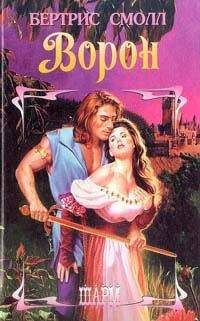Бертрис Смолл - Разбитые сердца
Точно так же было со мной и Эспаном. За пять лет после смерти Ричарда он разросся и пошел своим путем настолько непреклонно, что порой мне казалось, что у этого дома была собственная судьба, предначертанная с того момента, как лопата впервые погрузилась в землю. И пришел день, когда последний камень уложили на место, и я смогла обойти дом и посмотреть, все ли в порядке, а Эспан уже жил своей тройственной жизнью, ни к одной части которой я уже не имела отношения.
Там был женский монастырь, Беренгария страстно желала создать его, и я, связанная некоторыми условиями, была больше чем рада избавиться от ответственности за финансы и управление. Теперь в Эспане жили полторы дюжины монахинь, скромно одетых, смиренно семенивших по двору с опущенными глазами, неизменно покорных приказам тиранки-аббатисы, самими же ими избранной в порыве страсти самопожертвования. Мне она казалась ужасной, отвратительной женщиной, но я понимала, что при ней деньги будут в безопасности.
Старое крыло здания неизменно называли «номерами». Там ютились два десятка женщин, чьи права я строго оберегала, когда ведала всем сама. Они были такими же, какой стала бы я, если бы не мой отец, — бездомными, нуждающимися в прибежище, без намека на какое-либо призвание или склонность к чему-то. Их движения были более стремительными, чем у остальных обитательниц дома, одевались они ярче прочих в потрепанные, когда-то пышные наряды, пестовали комнатных животных, играли в карты, вышивали гобелены, заключали между собой непрочные союзы, изменяя прежним союзницам в пользу новых, и затевали ссоры.
А в самой новой части здания находилось то, что аббатиса, по происхождению немка, всегда называла на немецкий лад «киндергартеном». Там размещались несколько детей-сирот, несколько незаконных, побочных детей, а также дети, из милосердия взятые в многодетных семьях.
Должна признаться, что с детьми я чувствовала себя так же стесненно, как с монахинями или с дамами из номеров. Мой внешний вид вызывал у них либо леденящий ужас, либо смех. И хотя мне нравилось видеть их счастливыми и сытыми, я никогда не испытывала особых чувств к детям, за исключением двоих, которые, казалось, никогда не родятся — мальчика, похожего на Блонделя, и девочки, которая могла бы стать моей крестницей.
Единственным человеком, ходившим из одной части Эспана в другую и везде чувствовавшим себя как дома, была Беренгария. Она могла помогать ухаживать за детьми в киндергартене и казалась счастливой, играя с ними, могла зайти в номера и потратить пару часов с тамошними дамами — повышивать, посплетничать, отведать торта и конфет, но по призыву церковного колокола была уже в церковке, легко и изящно присоединившись к монахиням. Ее появление сопровождалось радостью, порой переходившей в обожание, куда бы она ни зашла. Дети любили ее за ласковую готовность поиграть с ними, женщины принимали ее за такую же, как они сами, монахини смотрели на нее как на святую и неизменно говорили о ней как об основательнице Эспана. Беренгария была довольна, счастлива и спокойна, как старик, вернувшийся домой после долгой, опустошительной войны и наслаждающейся теплом домашнего очага. Вооруженная двумя достоинствами — неувядаемой красотой и упрямой волей — она сражалась много лет, проигрывая каждое сражение, и все же вышла победительницей, способной отложить оружие, отдав свою красоту на милость времени, а волю на милость Божию теперь, когда ее враг, ее любимый, умер.
Постепенно, но все более достоверно мне стало казаться, что Божья воля воплощалась для Беренгарии в голосе аббатисы. И настал день, когда этот голос объявил, что я свободна.
Мадам Урсула и я под личиной утонченной вежливости скрывали откровенную взаимную неприязнь. Она, вероятно, чувствовала, что если бы Эспан был оставлен мне, то это было бы чисто светское заведение, и, разумеется, все мои установления, защитные меры, которые я принимала ради счастья и безопасности его обитательниц до того, как передала бразды правления ей, вполне оправдали такое подозрение. И поэтому ее неприязнь ко мне имела большие основания, чем моя к ней, основанная на менее веских и более личностных претензиях. И все же мы очень успешно работали вместе во время длительного периода передачи дел. У нее был острый ум, никак не связанное с религиозной жизнью чувство справедливости и дар логики. Профессионально — а религия с ее многочисленными разветвлениями была для нее скорее профессией, нежели призванием — она была несправедливой, нелогичной, диктатором до невообразимой степени, чувствующим свое неодолимое превосходство. Она была так сильно вооружена и настолько бесстрастна, что мне часто не хватало слов и хотелось с детской яростью ударить ее по гладкому пухлому лицу.
Через несколько дней после окончания строительства она прислала за мной и открыто заговорила о том, что в течение некоторого времени скрывала. Речь шла о Блонделе. Я вступила в схватку при явной форе с самого начала, в основном, если не говорить ни о чем другом, из-за чувства вины, потому что этим делом следовало заняться давно.
Когда мы с Беренгарией вернулись в Эспан после смерти Ричарда, Блондель был там. Он закончил свою хронику крестового похода. Поскольку строительство было завершено, он снова начал пить. Его правая рука теперь совсем не работала, а каждому понятно, как трудно поддерживать чистоту и следить за собой с одной рукой, будь человек хоть семи пядей во лбу. Но Блондель не требовал особой заботы о себе и не причинял большого беспокойства. Однако я делала все, на что была способна, чтобы он прилично выглядел. Он по-прежнему мог играть на лютне и в те дни постоянно старался развлечь Беренгарию, играя ей, рассказывая истории и выслушивая грустные реминисценции, дававшие выход ее скорби. И я, как всегда, тоже черпала радость в его компании. Общая печаль обостряла его живой ум, и все было хорошо, пока я избегала воспоминаний и воздерживалась от сентиментального обращения к прошлому.
Потом всех захватила идея постройки нового здания, началось проектирование, Блондель был занят и долгими периодами не пил, так что даже критически настроенной мадам Урсуле пришлось признать его полезность. Пролетели недели и месяцы, и мне снова приходилось либо спрашивать Блонделя, когда он в последний раз брился, либо советовать ему подстричь волосы. «Нельзя ходить в такой тунике», — говорила я, или: «Идите сюда, я подрежу вам ногти». Но такие незначительные проявления заботы напоминали надоедливое собирание мелких камешков с ровной, приятной дороги. Бывали часы, в особенности длинными зимними вечерами, которые мы проводили вместе в комнате, решительно отвоеванной мною для себя, то занимаясь английским языком, то читая или же просто беседуя. Такие часы примиряли меня с тем, что я была словно цепью привязанной к Эспану — своими обещаниями Беренгарии, Ричарду, своим собственным внутренним обещанием отцу. Я должна была заботиться о Беренгарии и всегда быть с нею. И могла быть только благодарна Блонделю за то, что он тоже был с нами.