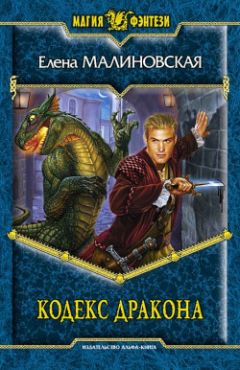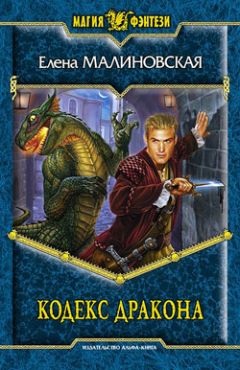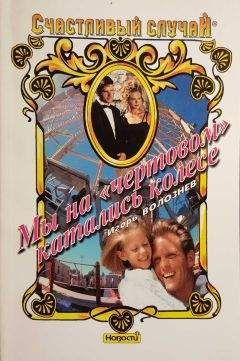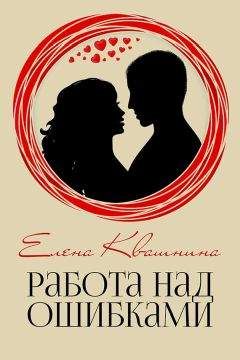Елена Арсеньева - Обручение на чертовом мосту
Она шагнула к Игнатию, желая обнять, поцеловать эти прекрасные, полные слез глаза, погладить понурую чернокудрую голову, сказать, что горе – это, конечно, горе, но он теперь не один на свете, есть существо рядом, которое разделит с ним все горести и все печали, однако запнулась, удивленная. В лицо Игнатия вернулись краски, плечи его распрямились. Чернокудрая голова вовсе не была печально опущена, сверкающие глаза были совершенно сухими, и вообще – он ничуть не напоминал раздавленного бедою, осиротелого сына.
– Ах ты Софокл чертов! – вдруг проговорил он, обращаясь к Емеле низким голосом, какой бывает у человека, пытающегося скрыть так и рвущееся наружу возбуждение. – Такая новость… а ты все вокруг да около! Напился, да? Вот погоди – я из тебя дурь повыбью. Ты у меня не забалуешь, как при батюшке! Никто не забалует! – вдруг выкрикнул он, потрясая кулаками, и осекся, опустил руки. Суматошно оглянулся, словно устыдившись.
Емеля, оглаживая переполошившуюся мохноногую лошадку и обращаясь как бы к той, примирительно молвил:
– Ладно, ваше сиятельство, уж будя вопеть-то, давай, повелевай, на ком далее поедешь: на мне али на прежнем кучере?
– Выгружай вещи, Софокл, да поскорее, – приказал Игнатий. – Какая ни есть развалюха, а все ж своя. Но этот ваш Адольф Иваныч мне дорого заплатит за нее… дорого! Кстати о плате: ты уж не сердись на меня, – просительно обратился он к наемному вознице, который с разинутым ртом наблюдал за происходящим. – Мы, конечно, уговаривались до Лаврентьева, однако у меня денег только за полдороги заплатить, а больше нет.
Кучер, обретя наконец дар речи, возмущенно заблажил, однако Игнатий внезапно вспомнил о своем графском достоинстве и так грозно выкатил глаза, так взревел:
– А ну, пшел прочь, дурак! Вот я тебя!.. – что обиженный возница счел за благо убраться восвояси, даже не пересчитав монет, которых ссыпал ему в горсть Игнатий, а свое отношение к свершившемуся выразил особенной грубостью, с которой побросал привязанный к задку его повозки багаж.
Емеля даже закряхтел, увидев эту гору, однако Игнатий не преминул по-новому, по-графски, рыкнуть и на него, а потому вещи довольно споро оказались погружены заново, накрепко увязаны – и Ирена не успела опомниться, как оказалась сидящей рядом с мужем в очередном экипаже, внутренность которого отличалась от прежнего только тем, что сиденья и стенки были обиты не ржавой, потрескавшейся кожею, а до лысин протертым линялым трипом[6] неопределенного цвета да пахло в карете не мышами, как в прежней, а застарелой плесенью.
Игнатий так и не сказал ей ни слова. Едва Емеля уговорил мохноногую, которая все еще не пришла в себя с испугу, тронуться с места, он откинулся на спинку и закрыл глаза. Ирена, по обыкновению забившись в уголок, исподтишка на него поглядывала.
Голубая жилка билась на виске Игнатия, нервно подрагивали длинные, круто загнутые ресницы, губы были плотно стиснуты, и все лицо его четкостью и отточенностью черт напоминало античный мраморный образ. По горлу Игнатия порою пробегал комок, сплетенные пальцы начинали дрожать, и Ирена поняла, что до ее мужа наконец-то дошла суть свершившегося, постепенно сменив первое оглушительное, неразборчивое потрясение. Да уж, ему было о чем подумать… хотя бы о тех непредсказуемых случайностях, которые способны мгновенно прекратить одну человеческую жизнь – и перевернуть другую.
Судя по Емелиным отрывочным словам, которые услышала Ирена, пока мужчины увязывали багаж, граф Лаврентьев умер по оплошности цирюльника. Нет, тот не перехватил барину спьяну горло опасной бритвою, что было хотя бы понятно и не столь обидно. Срезая графу мозоль, цирюльник слегка зацепил за живое, так что показалась кровь. Обрез был ничтожным, ему и внимания-то никто не уделил, разве что барин насмешливо бросил: «Спасибо! Усердно поработал!» Однако порез не исчез вскорости бесследно, как следовало ожидать, а вокруг него образовалось черное пятно.
Вызванный доктор поглядел на зловещее пятно и сообщил, что налицо старческое умирание конечностей, проявившееся антоновым огнем, который прекратить невозможно.
Да уж! Антонов огонь мгновенно распространился на всю ступню и грозил ползти по ноге. Граф, всегда отличавшийся поразительным хладнокровием и быстрым принятием решений, заявил, что ногу надобно отрезать. Хотя два привезенных к нему и лечивших его доктора титуловались медико-хирургами, оба, лишь дело дошло до операции, стали от нее отказываться. Решили дело наконец-то жребием. При операции могучий духом и телом граф сам, без посторонней помощи держал ногу, ободрял хирурга и только иногда спрашивал: «Ну, скоро вы там?»
Операция закончилась, рана уже стала подживать, как вдруг резко почернела – и жар мгновенно дошел до мозга.
Старый Лаврентьев умер в один день…
Свое страшное сообщение Емеля закончил философическим изречением:
– Ну, что делать, судьба: кому скоромным куском подавиться – хоть век постись, а комара проглотишь – и подавишься.
Наверное, он искренне хотел утешить Игнатия, однако вряд ли это ему удалось.
Конечно, сочувственно рассуждала Ирена, отношения отца с сыном были очень непростыми, а все-таки Игнатий сейчас не может не вспоминать лучших дней их совместной жизни, забот и щедрости отца. Наверное, ему нелегко поверить, что этого больше не будет, что отец навеки закрыл глаза и уже не сказать ему, никогда не сказать о своей сыновней любви.
Она тоже прикрыла глаза, потому что на них вдруг навернулись слезы. Вот если, Господи помилуй, за время ее бегства что-то приключится с отцом и матушкою – каково-то будет чувствовать себя Ирена, узнав об этом? Какая мука ляжет ей на душу!
Сердце защемило от боли, тоски, раскаяния. В который уже раз горько попрекнула себя Ирена за то, что поддалась безрассудному порыву и нанесла такое ужасное оскорбление своей семье. Матушка с отцом уже давно вернулись домой, прочли ее невразумительную записку и… ужаснулись? Впали в отчаяние? Кинулись на поиски своей глупой, заблудшей дочери? Или прокляли ее, вычеркнули из своей жизни, запретив упоминать даже имя ее и заперев ее комнаты, словно в них обитала прокаженная, даже мысль о которой может нести смертельную заразу?
Ирена с трудом подавила надрывное всхлипывание и взглянула на Игнатия. Он по-прежнему сидел закрыв глаза, с выражением тяжелой задумчивости. И такое одиночество взяло вдруг Ирену за сердце, что она принуждена была прижать к нему руки жестом извечной боли.
Они ведь муж и жена! Они поженились, пылая любовью и желанием быть всегда, нераздельно вместе! Отчего же сейчас, в самую тяжкую минуту их недолгой совместной жизни, они сидят врозь, отодвинувшись друг от друга как можно дальше – словно нарочно разъединившись перед лицом горя, которое должно было объединить их…