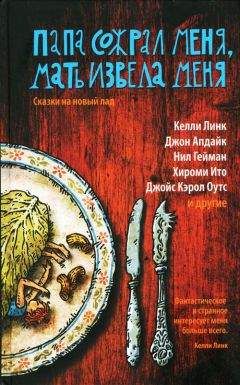Елена Арсеньева - Последнее лето
Проговорив все это, Грачевский сделал легкий поклон в сторону названных лиц, показывая, что конферанс завершен, однако со сцены не удалился, а присел рядом с Прошенко – Лукой и Маниным – Бароном. Теперь он был уже не конферансье, а Бубнов.
Г-жа Маркова, закрыв глаза и качая головой на манер китайского болванчика, нараспев произнесла первую реплику своей роли:
– Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились… а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и – белый как мел, а в руках у него леворверт …
Нарочито неправильно выговорив это слово, она поджала губы и вытаращила глаза.
Г-жа Маркова, даже и в роли босяцкой девицы Насти, была, по обыкновению, набелена и нарумянена сверх всякой меры, вдобавок напялила на себя какие-то мятые, поношенные кофту и юбку. Конечно, это была не ее собственная одежда: отказавшись от декораций, в Народном доме не зашли столь далеко, чтобы отказаться и от костюмов, тем паче что для пьесы «На дне» костюмы имелись подлинные, за немалые деньги купленные в свое время для премьеры у самых настоящих босяков с Миллионки – тех, с которых Максим Горький и копировал своих ночлежников.
Когда Шурка Русанов (тогда еще совсем маленький) услышал о том, что актеры выходят на сцену в настоящих босяцких обносках, он наотрез отказался идти в театр: «Босяки вшивые, значит, и костюмы у них вшивые, а я вшей боюсь!» Шурка был чудовищно, просто патологически чистоплотен, слова «вши» и «микробы» были у него самыми ругательными, и тетя Оля прочила ему будущность бактериолога вроде Коха, Эрлиха или русских – Ценковского, Габричевского и Ильи Мечникова (она обожала читать медицинские журналы, потому что сама была несостоявшаяся медичка), потихоньку подзуживая, чтобы не шел после гимназии в Коммерческий институт, как того требовал отец, а ехал бы в столицу поступать на медицинский факультет университета. Шурке в столицу ехать ничуть не хотелось, он надеялся, что в Энске вот-вот откроется свой университет со своим медицинским факультетом, на что в свое время были пожертвованы деньги миллионером Кондратием Рукавишниковым. Однако со смертью последнего дело открытия университета что-то заглохло и было положено отцами города в самый долгий ящик…
– Ишь! Видно, правду говорят, что студенты – отчаянные… – раздалась реплика другой актрисы, и внимание Сашеньки переключилось на нее.
Рядом с нелепой Настей сидела Наташа – голубоглазая девушка с длинной русой косой и в кофте и юбке – вроде бы опрятных, простеньких, но столь туго облегавших фигуру, что это выглядело почти неприлично. Впрочем, сколько помнила пьесу Сашенька, эта Наташа была довольно скромная и приличная девушка (хоть и якшалась с неподходящей публикой). То есть отнюдь не роль требовала от Клары Черкизовой таких вызывающих одеяний. Но она вообще ходила только в переобуженных платьях, всячески выставляя себя напоказ. Рассказывали, будто платья эти она берет напрокат , что, с точки зрения всякой уважающей себя дамы, считалось верхом неприличия. Но с точки зрения мужчин, в платьях или без, там было что выставлять: роскошный бюст, тонюсенькая талия, крутые бедра. С точки зрения женщин, смотреть на «это бесстыдство» было весьма противно. Вдобавок Клара Черкизова была смазливая (мужчины называли ее красивой) блондинка (женщины называли ее белобрысой, крашеной выдрой), и слава о ней шла самая дурная. Иногда она пела модные песенки в «Венеции» и даже в «Белом медведе» – ресторанах, куда ни одна приличная женщина и шагу не шагнула бы. Из уст в уста передавалась смелая острота: дескать, господин Шмелев, управляющий «Венецией», сделал объявление, мол, девицы легкого поведения в его ресторан не допускаются и их просят не утруждаться попытками проникнуть туда, однако на эстраде у него целыми вечерами вертится самая настоящая блудница, которая совратила половину добропорядочных людей в городе и не собирается на этом останавливаться.
Насчет половины, очень может быть, сие преувеличено, зато Сашенька Русанова близко знала как минимум одного человека, который и впрямь был совращен Черкизовой, совершенно потерял от нее голову и в разум возвращаться не собирался. Как оно ни печально, это был Сашенькин отец Константин Анатольевич Русанов…
– И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь…» – проговорила между тем Настя, и Сашенька несколько отвлеклась от своих печальных мыслей о несовершенствах собственного родителя. Спектакль-то шел своим чередом!
Интересно, а почему для постановки в Народном театре выбрали такую невыразительную сцену? Почему в ней не участвует Вознесенский, который играл Ваську Пепла? И как играл! В любом случае даже патетические вопли Сатина – его роль в спектакле исполнял господин Пряхин – о том, что человек – это великолепно, это звучит гордо, – было бы слушать приятней, чем смотреть на Черкизову.
– Хо-хо! – между тем с издевкой произнес Грачевский, он же Бубнов. – Драгоценная?
– Погоди! – отмахнулся от него Манин-Барон. – Не любо – не слушай, а врать не мешай… Дальше!
– «Ненаглядная, говорит, моя любовь! – с некоторым завыванием произнесла Настя. – Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой… и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни…» А леворверт у него – агромадный и заряжен десятью пулями… «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца, решился я бесповоротно… жить без тебя – никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой… Рауль…»
– Чего-о? – изумился Бубнов. – Как? Краул?
– Настька! – захохотал Барон. – Да ведь… ведь прошлый раз – Гастон был!
– Молчите… несчастные! – вскочила Настя. – Ах… бродячие собаки! Разве… разве вы можете понимать… любовь? Настоящую любовь? А у меня – была она… настоящая! Ты! Ничтожный!.. – крикнула она Барону. – Образованный ты человек… говоришь – лежа кофей пил…
Конечно, постановка была Сашеньке совершенно неинтересна, однако она вдруг подумала, что госпожа Маркова в самом деле была хорошей актрисой, пока не покинула сцену ради выгодного брака. Даже сейчас она играла превосходно. Настю стало ужасно жалко… А вот Наташа выглядит неестественно, подумала Сашенька. Никакая она не актриса, эта Клара Черкизова! Вообще нет таланта! Что в ней нашел отец? Кстати, Шурка тоже считает ее красавицей. Право, все мужчины ужасно глупы!
– Не хочу больше! Не буду говорить… Коли они не верят… коли смеются… – сердито сказала между тем Настя, но все же продолжила пылко: – И вот – отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете… потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни… Как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты – вся их радость… Брось меня! Пусть лучше я пропаду… от тоски по тебе, жизнь моя… я – одна… я – таковская! Пускай уж я… погибаю – все равно! Я – никуда не гожусь… и нет мне ничего… нет ничего…»