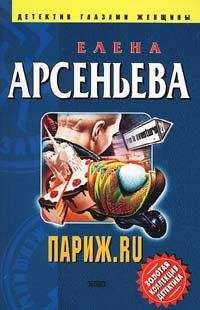Елена Арсеньева - Звезда королевы
— Иван Матвеевич… — прошептала Мария, хватая его за руку. — Что?.. — И осеклась: старик, не скрываясь, плакал, пытаясь что-то сказать, но голос не повиновался ему, и прошло несколько страшных мгновений между ужасом и надеждой, пока Симолин смог заговорить:
— Ее убили, потому что все знали: она была теткой баронессы Корф.
— Нет!
Мария прижала пальцы к губам, и в долю секунды вся история ее трагических отношений с «графиней Строиловой» пронеслась перед ее мысленным взором. Тетушка Евлалия, она же Евдокия Головкина, на постоялом дворе сочувственно смотрит на беременную племянницу… кроет добрым русским матом Николь, заломившую непомерную цену за обман барона… идет, прихрамывая, средь веселых масок, скрывающих искаженные алчностью лица под желтым оскалом Смерти… сидит вся в черном, величественная и бесстрашная, под злобными взглядами взбунтовавшихся женщин… несет в Тюильри огромную коробку с сухими бисквитами, среди которых спрятаны письма Фергзена к королеве, полные самой нежной любви и самых безумных планов спасения… Всегда тетушка, вечно рядом с Марией! Да как же поверить, что ее больше нет? Разве можно в это поверить?
— Сразу, как прискакал нарочный из Варенна, отрядили отряд гвардейцев к вам домой. А вас и след простыл, однако горничная сказала, что последние дни вы жили у тетушки своей. И адрес назвала. Эти-то, бесштанные [226], туда ринулись. А Евдокия Никандровна, царство ей небесное, в шкафу своем пудрилась. Вы шкаф-то сей знаменитый видывали?
Еще бы? Про этот шкаф парижские парикмахеры сказки рассказывали! Обычно парики пудрили следующим образом: дама надевала пеньюар, закрывающий всю одежду, против глаз держала маску со стеклышками из слюды, а домашний парикмахер особым дульцем выдувал на прическу пудру. Однако Данила, талантливыми руками которого графиня Строилова пользовалась куда чаще, чем его истинная хозяйка, изобрел для Евдокии Никандровны нечто совершенно особенное: это был шкаф, в который старая щеголиха влезала, вся окутанная пеньюаром, затворяла дверцы, а пудра через особое, частое сито нежно опускалась на нее сверху, необычайно ровно покрывая самую причудливую прическу.
Так что же случилось с тетушкой в этом знаменитом шкафу?
— Только забралась графиня пудриться, а тут, откуда ни возьмись, — национальные гвардейцы. Рассыпались по дому — ружья на изготовку, слуги в страхе попрятались, а Евдокия Никандровна в своем шкафу ничего не видела и не слышала. Вдруг — что такое, пудра на нее перестала сыпаться. Графиня шумнула раз, другой — ничего не помогает. Отворила она, сердясь, дверцы, высунулась — а там гвардеец. Она впотьмах чужого не опознала да как рыкнет: «Жан! Я тебе голову сейчас оторву, лоботряс эдакий!»
А гвардейца, как назло, тоже звали Жаном. Увидал он привидение сие — все белое, услыхал, как оно грозит ему страшным голосом, — да и выстрелил…
Графиня и упала, где стояла. Это уж потом спохватились, что даже приказа об ее аресте у солдат не было, не то чтоб убивать, да поздно, поздно!
Он перекрестился.
— Добрая была женщина. Нет, не добрая, а… великая! Великая была женщина, царство ей небесное!
Он помолчал. Молчала и Мария, только взглянула на Симолина полными слез глазами, и тот, поняв ее невысказанный вопрос, горестно ответил:
— Мы ее похоронили по-русски, без тяжелых камней. Там же, на кладбище Сент-Женевьев, где и Димитрий Васильевич упокоился… вернее, где могила его.
Он поцеловал руку Марии, и она ощутила, что ее старый друг вернулся к ней. Его просто тяготила страшная весть, которую он должен был сообщить Марии, а сейчас глаза вновь светятся той искренней нежностью, к которой привыкла Мария.
— И еще вот что… — как бы нерешительно заговорил Иван Матвеевич. — В жизни ведь всегда так: теряешь, но и обретаешь. — Он медлил, словно пытаясь подобрать нужные слова, но тут совсем близко раздалось уханье филина, и Симолин невольно вздрогнул: — Нет, заболтался я! Вам надобно уходить скорее. Не могу позвать вас к себе, сами понимаете — за мной глаз да глаз!
Мария понимающе кивнула. Она на протяжении всего разговора, чудилось, ощущала на себе чей-то пристально неусыпный взор; что же должен испытывать бедняга Симолин, который шагу не может ступить, чтобы за ним не бежала тройка филеров?
— Однако же, поскольку заставы все закрыты, ночь можно пробыть в сторожке, на кладбище Сент-Женевьев, — скороговоркой шептал Иван Матвеевич. — Прежний сторож помер, а новый — он человек хороший. Добрый человек! — Голос его зазвенел от волнения. — Берегите себя, душа моя. Храни вас Бог. Только Ему ведомо, свидимся ли еще, так что прощайте. Будьте счастливы!
Троекратно расцеловавшись с Марией, он перекрестил ее, а затем удержал Данилу:
— Погоди, друг мой. Тебе я должен сказать, где лошадей достать.
Они отошли в сторонку, а Мария стояла, обхватив себя за плечи и вся дрожа. По спине все еще бежали мурашки от того зловещего уханья. Крик филина беду вещует, гласит примета. Ох, до чего же дожил Париж, коли в самом сердце его, на площади Звезды, завелся спутник лешего! Надо скорее уйти отсюда. Может быть, в той сторожке на кладбище тепло?..
* * *Но сторожка оказалась заперта. Вот и еще одна примета сбылась: филин не к добру хохочет. А что бы ей не сбыться? Приметы — в них мудрость вековая!
Мария тряхнула головой. Мысли плыли едва-едва — ненужные, пустые, ни о чем. Смертельно хотелось спать.
— Ты иди, поищи этого сторожа, что ли, — вяло сказала она. — А я здесь подожду.
Данила глядел на нее блестящими глазами и порывался что-то сказать, но молчал. Он вдруг странный какой-то сделался после разговора с Симолиным: Мария заметила, что он украдкой смахивал слезы, а потом вдруг принимался напевать, да не какую-нибудь привычную французскую мелодию, а уж полузабытую русскую, про красную девицу, которая на берегу ждет-пождет добра молодца, который все равно приплывет, все равно приплывет к ней, хоть ладья его затоплена, тело изранено — зато сердце любовью полно!
Мария только слабо улыбнулась, слушаючи. Если она от усталости была сама не своя, так Данила небось просто спятил.
— Может, дверь взломать в сторожку? — предложил он нерешительно. — Вдарить покрепче ногой раз, ну два — и откроется.
— Нет, не надо, — покачала головой Мария. — Он потом донесет на нас — мало разве у нас неприятностей!
— Он-то? Донесет?! — с изумлением воскликнул Данила, да осекся и, бросив: — Ну, я за лошадьми, а вы, барышня, тут ждите! — кинулся прочь, словно бы гонимый насмешливым уханьем филина. Эх, каково разошелся! Что ж еще вещует?