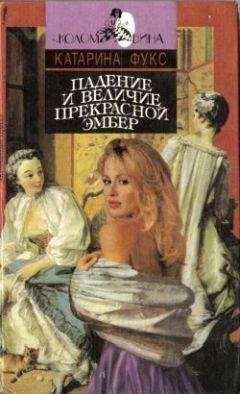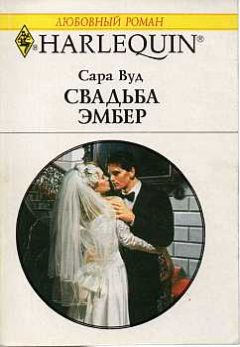Катарина Фукс - Падение и величие прекрасной Эмбер. Книга 2
Допрашивающий заметил, что я побледнел. Я и сам чувствовал, что бледнею, даже лицу стало холодно.
– Вы напрасно опасаетесь, – сказал человек за столом. – Никто не станет сажать людей в тюрьму только за то, что они говорили с вами или с вашим другом.
Я отчетливо сознавал, что то, что я сейчас скажу, решит мою судьбу.
«Мне все равно не спастись, не выбраться отсюда, – подумал я. – По крайней мере, погибну честным человеком, никого не предавшим, никого не обрекшим на муки».
– Я не уверен в том, что никто не попадет в тюрьму из-за меня, – сдавленным голосом произнес я.
– Вы поступаете нелогично, – возразил человек за столом, сохраняя спокойствие и вежливость. – Неужели вы полагаете, что нам так трудно узнать, где, когда и с кем вы встречались? Мы легко можем все узнать и без ваших показаний. А ваше теперешнее упорство может навести на мысль, будто вы покрываете преступников…
Он говорил, казалось бы, вполне разумно. Но я уже твердо решил не вдумываться в его слова, не соблазняться их логикой, а руководствоваться лишь собственными нравственными принципами.
– Нет, я не стану говорить, – ответил я.
Он вызвал стражников и меня увели. Теперь надо было готовиться к самому худшему. Пока самым худшим в моем положении может быть пытка. А в дальнейшем? Смерть. Надо смотреть правде в глаза. Смерть. Мне не спастись. Теперь уже вопрос в том, какая смерть. Неужели самая мучительная, в пламени костра на площади? Но у меня нет выхода.
Я жалел себя и Николаоса, с болью в сердце вспоминал отца и мать. Я прощался с жизнью. Я думал, что моя жизнь уже кончена. Я стою на тропе, ведущей к смерти.
Я подумал о милосердии Божьем и принялся смиренно и горячо молиться. Я не просил Господа сжалиться надо мной. Со слезами на глазах я просил Его о жалости к тем, увы, немногим, кого мне довелось по-настоящему любить, к родителям, к Николаосу. Я просил у Господа прощения за то, что полагал своим самым страшным грехом, за то, что я любил так мало и любви моей хватило на столь малое число людей.
Наутро меня вывели из камеры. Я знал, куда меня поведут, хотя в глубине души продолжал смутно, наперекор всему, надеяться на чудесное спасение.
Но я узнал коридор, по которому меня вели. Несомненно это была дорога в пыточный зал. Сердце мое сильно колотилось. Я не готовил себя в эти минуты к тяжелым испытаниям, не думал о том, чтобы сдерживаться, не кричать, мужественно переносить боль. Все равно произойдет то, чему суждено произойти. Но говорить я не буду. Пусть я буду кричать, плакать, молить о пощаде, но я никого не назову.
В камине ярко горел огонь. В зале находились несколько человек: один из чиновников инквизиционного суда, протоколист за столом и два палача, впрочем, эти последние вовсе не выглядели устрашающе. Вообще все было так спокойно, по-деловому…
Сначала мне предложили сесть. Затем чиновник спросил меня, согласен ли я назвать людей, с которыми мне и моему другу приходилось встречаться в Мадриде.
– Нет, – ответил я, чувствуя, что голос мой звучит спокойно, с какой-то легкой грустью. Странно все это было.
Чиновник вежливо объяснил мне, что меня вынуждены подвергнуть телесному воздействию, что он назначен надзирать, следить, чтобы это воздействие производилось бескровно и без малейших злоупотреблений или жестокости. Протоколист должен был тщательно зафиксировать ход пытки.
Затем чиновник велел мне раздеться. В камине был разложен огонь, в зале было тепло. Странно, но я почему-то успокоился.
«Ну вот, – подумал, я – Теперь все пойдет своим чередом. Но одно, пожалуй, ясно: сегодня, сейчас меня не убьют».
Это соображение обрадовало меня. Да, я знал, что погибну, но я, конечно, цеплялся за жизнь.
Что было дальше? Я уже разделся и стоял. В зал вошел еще один человек. Чиновник пояснил мне, что это врач, которому надлежало следить, чтобы пытки не нанесли ущерб моему здоровью. Это сообщение заставило меня невольно улыбнуться, но в то же время вселило парадоксальную надежду…
Дальше… Меня начали пытать. Несколько раз поднимали на дыбу. После каждого раза чиновник вежливо повторял прежние вопросы. Я отказывался отвечать. Сколько времени Меня пытали, не помню. Помню, что выворачивали руки и ноги. Несколько раз я терял сознание и приходил в себя на широкой деревянной скамье, врач щупал у меня пульс, затем объявлял, что можно продолжать. Готовясь к этому дню, я полагал, что буду кричать, даже, возможно, плакать. Но человек не так уж хорошо знает себя. Я сам удивился своей стойкости. Я ни разу не застонал, не произнес ни слова, ни разу даже не вскрикнул. Причем, мне вовсе не приходилось сдерживаться, моя стойкость не стоила мне ни малейших усилий. В сущности, я даже и не чувствовал боли.
Я находился в состоянии какого-то странного возбуждения, какой-то душевный подъем, экзальтация какая-то…
Когда мне объявили, что сегодняшняя пытка завершена и позволили одеться, я быстро оделся. Я легко дошел до моей камеры. Мне принесли обед, я поел даже с аппетитом. Наконец, оставшись один в камере, я ощутил некоторую слабость. Тогда я лег на кровать. Слабость нарастала. Затем я начал ощущать мучительную тягостную боль, ныло все тело, болела каждая мышца. Вот теперь я начал громко стонать. У меня не было сил подняться с постели. Иногда боль становилась невыносимой, тогда я просто-напросто вопил. Сдерживаться я не пытался. Зачем? Уснуть я не мог. Глаза горели, словно посыпанные песком.
Утром стражник принес мне поднос с завтраком. Вместе с ним вошел давешний врач. Он посмотрел на меня, пощупал пульс, наклонившись, затем спокойно сказал, что сейчас он окажет мне помощь. Я не в силах был отвечать. Он быстро засучил рукава, раздел меня и начал массировать. Сначала было очень больно, я вскрикивал. Но вот стало легче дышать, боль уходила. Он закончил и помог мне одеться.
– Благодарю вас, – пробормотал я.
А что еще можно было сказать? Разумеется, он служил моим мучителям, но сейчас ведь он и вправду помог мне.
Врач ушел. Мне полегчало, но все равно я чувствовал себя разбитым. С трудом заставил себя сесть за стол и поесть. После завтрака снова лег в постель.
В тот день мне принесли, как обычно, и обед и ужин. Я заставлял себя есть и тотчас снова укладывался.
Вытянувшись под одеялом, изнывая от слабости и болезненных ощущений, которые хотя и стали слабее, но все равно достаточно изнуряли меня, я размышлял. В конце концов мысли мои приняли следующий оборот: ради чего, в сущности, я подвергаю себя таким мукам? Люди, имена которых я не желаю назвать, вовсе не так уж близки мне. Я мучаюсь не из-за них, но из-за собственных принципов. Другое дело, если бы опасность грозила, например, Николаосу. Тогда бы я молчал и мучился ради его спасения. А так… Что сделали бы, очутившись на моем месте, те, о которых я так упорно молчу? Бьюсь об заклад, что девять из десяти выдали бы меня…