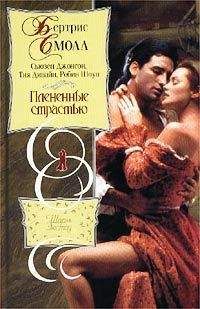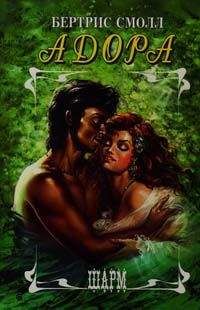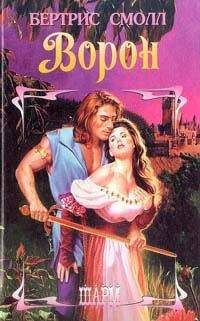Бертрис Смолл - Разбитые сердца
Деньги в сумочке были при мне, потому что в нашей временной комнате негде было их оставить. Я достала четыре кроны, положила ему на ладонь и пригнула над монетами его пальцы. И, стараясь ему подыграть, сказала:
— Не несите их в кабак, молодой человек. Вам нужна новая туника. — И это была чистая правда. Та, в которой он стоял передо мной, была заношена до дыр, забрызгана грязью и измята. Присмотревшись, сначала с усмешкой, а потом посерьезнее, я узнала в ней ту самую тунику, которую он получил от Беренгарии в день отъезда в Англию столько лет назад! За это время он вырос — у меня сжалось сердце, когда я это заметила, — не потолстел, но раздался в плечах, и руки стали длиннее. Все эти годы он ездил по чьим-то чужим делам, и никому не пришло в голову позаботиться о том, чтобы купить ему новую одежду. Я почувствовала боль в перехваченном спазмом горле — боль любви. Дорогой мой, я отдала бы тебе все на свете! И внезапно я заговорила, от всего сердца:
— Послушайте, когда вы, наконец, покончите со своими разъездами? Я по-прежнему безумно хочу уехать в Апиету и построить дом. Давайте оставим всех королей, королев, епископов и все их замки — от этой шахматной игры, в которой мы с вами всего лишь пешки, меня уже тошнит! Давайте удерем отсюда и займемся собственными делами.
— Я должен сделать еще только одно дело. А потом, клянусь, миледи, ничто на свете не встанет между мной и строительством вашего дома — если вы по-прежнему этого захотите.
— И что же это за дело? — мне безумно хотелось отбросить в сторону все сразу: выйти за дверь и отправиться в Апиету хоть сегодня вечером. — Скажите мне, Блондель.
— Хорошо. Если вы пообещаете мне, что будете молчать, как камень. Я ни за что на свете не хотел бы порождать ложную надежду, но есть одна вещь, которую могу сделать я и только я. И эту идею мне подали вы, Анна Апиетская. — И он рассказал мне о своих намерениях.
Я выбралась из овчинного полушубка.
— Он вам понадобится. А я без труда могу получить другой. И, разумеется, вам потребуется больше денег. Глупо отправляться по такому делу с четырьмя кронами в кармане!
Я открыла сумку и вытряхнула все ее содержимое в его сумку, висевшую на поясе, и в этот момент дверь в комнату королевы-матери открылась и в сгущавшихся сумерках прозвучал громкий старческий голос: «Эмиа!»
— Да поможет вам Бог, — напутствовала я Блонделя. — Берегите себя. И сразу возвращайтесь ко мне.
6
Элеонора Аквитанская была умной женщиной. Когда через семь месяцев вернулся Блондель и сказал, что нашел Ричарда — он находился в замке Тенебрез, в Друренберге, что в Австрии, но не полностью в юрисдикции эрцгерцога, — она проявила достаточно мудрости и хитрости, чтобы не прокричать на весь мир, что Ричарда нашел лютнист, за семь месяцев обошедший пешком всю империю, неустанно играя на лютне перед каждым замком, каждой башней, каждой тюрьмой и распевая первую строфу баллады, которую они с Ричардом сочинили на Сицилии. Ожидая где-то услышать ответ, Блондель упорно, с растущим разочарованием брел из одного места в другое, пока наконец, когда он уже почти отчаялся, не наступил тот драматический момент, когда в ответ на замерший во мраке первый стих: «Пой о моей кольчуге» — прозвучал другой голос: «Пой о моём мече», и Блондель понял, что поиски увенчались успехом.
Эта фантастическая история больше подходила для легенды и плохо вписывалась в реальность, но Элеонора, схватив гусиное перо, принялась строчить письма, начинавшиеся фразой: «Я располагаю неопровержимыми доказательством того, что Ричард Английский содержится в заточении в замке Тенебрез, в Друренберге». В письме Леопольду она довольно коварно добавила, что, узнав об этом, он, вероятно, будет удивлен и озабочен.
«Неопровержимое доказательство» — слова, в сочетании с чувством вины, которого не мог не испытывать Леопольд, и желанием поскорее получить юную Элеонору, побудили его к действию. Он тронул за локоть Папу и сказал: «Больше скрывать нельзя! Это привело в ужас императора, который всегда твердил: «Если бы у нас были доказательства… Если бы мы знали…» Виновные в самых тяжких преступлениях в конце концов признаются в содеянном, если кто-то, глядя им прямо в глаза, говорит: «У меня есть неопровержимое доказательство!»
Три хороших летописца потратили бы всю свою жизнь на описание мельчайших подробностей прилива исповедальности, умывания рук и перетряхиваний чужого грязного белья, охватившего Европу.
Среди всей этой суматохи Блонделя совершенно не замечали, о нем все позабыли, кроме Элеоноры, подарившей ему сто марок — я уверена, не без большого внутреннего сопротивления, потому что в воздухе уже висело слово «выкуп».
Я этого не понимала. Ричард не был военнопленным. Он был крестоносцем, мирно возвращавшимся домой через территорию, находившуюся под властью человека, чья страна, как бы он ни был оскорблен лично, не была в состоянии войны ни с Англией, ни с другими владениями Ричарда. Его бросили в тюрьму без объяснения причин, без следствия и суда, и местонахождение пленника держалось в такой строжайшей тайне, что попытки освободить его были совершенно безнадежными. А когда его врагам пришлось наконец действовать в открытую и состоялся судебный фарс в Хагенау, Ричарда оправдали по всем статьям.
Было бы логично думать, что если речь зашла о деньгах, то следовало выплатить Ричарду крупную сумму в компенсацию четырнадцатимесячного бесправного заключения. Однако у него не было ни одного влиятельного друга, ни союзника, ни родственника, способного сказать императору: «Освободите его, а не то я вам покажу!» Любой из действительно имевших вес людей — за исключением разве великого магистра ордена тамплиеров, сражавшегося рядом с Ричардом в крестовом походе, — ненавидел его, боялся, как яда, и с удовольствием увидел бы его повешенным. Филипп Французский, уезжая из Палестины, пообещал ничего не предпринимать против интересов Ричарда, пока тот продолжал сражаться, но десятки раз нарушал обещание, стакнувшись с Иоанном, в котором видел будущего узурпатора. Англия была разделена и ослаблена. А когда улеглись волнения, были выдвинуты и отвергнуты все обвинения и контробвинения и Филипп с Леопольдом попытались оправдать свое поведение обвинением Ричарда в убийстве Конрада де Монферра — громогласно рассказавшего о своем смертном приговоре за ужином, на расстоянии вытянутой руки от меня, — тогда император с беспримерной смелостью объявил, что Ричард может быть освобожден за выкуп в сто пятьдесят тысяч марок. И никто не выступил с официальным протестом. Тогда старая седовласая женщина с безумными глазами сказала: «Деньги нужно найти!» и Хьюберт Уолтер, которого мучительно тревожило то, что происходило в Англии, пока он находился в Хагенау, заметил: «Мадам, я сомневаюсь, чтобы во всей Англии сейчас нашлась, дай Бог, половина этой суммы!»