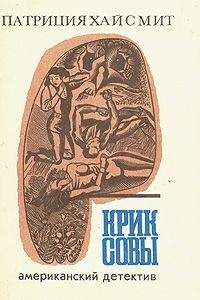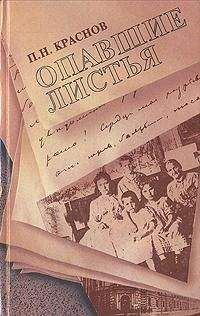Элизабет Чедвик - Победитель, или В плену любви
— Он ничего не сможет сделать, — громко повторил Александр. — Я знаю только, что…
Ее лицо исказилось, и она дотронулась до своего обручального кольца.
— Он заставил меня чувствовать себя беспомощной и запуганной.
— Неудивительно, — сказал Александр мрачно. — Я только жалею, что меня не было с вами.
Но Манди вновь подумала: «Слава Богу, что он отсутствовал во время стычки».
Она принесла льняное полотенце, согретое возле очага.
— Я и не знала, что мой язык сможет быть таким острым, — сказала она. — Думаю, я сделала ему точно так же больно, как он — мне.
— Но ты использовала это для самообороны. Он же начал атаковать первым.
— Я не оправдываюсь, — сказала Манди рассеянно.
— Тебе не в чем оправдываться. — Он, уже умывшийся, взял полотенце из ее рук. — А в прошлом вины твоей нет, а вот его — есть.
Она одарила его взглядом, в котором угадывалось сомнение.
— Из тебя получился бы очень хороший священник-утешитель.
— Боже упаси! Все это уже в прошлом! — фыркнул он. — А с обращением моего братца со святым семейством все теперь станет в порядке, вот увидишь. Да освятит Господи его на всех путях земных.
Помогая ему надеть чистые камизу и котту, Манди прижалась к мужу, а он поцеловал ее.
— Все это позабудется, я уверен.
— Да, я знаю. — Манди ответно поцеловала его и потерлась своим затылком о его плечо, утешаясь.
Надо было еще как-то поднять ее настроение. Александр достал из потайного кармашка на поясе маленький мешочек из телячьей кожи.
— Я принес тебе подарок, сказал он и положил мешочек в ее руку. — Ну давай, открывай, — подгонял он ее.
Улыбка заиграла в ее глазах.
— Я могла бы догадаться, — сказала она. Камешки изумительно разнообразных цветов катались между пальцами — кремовые и цвета корицы, желтовато-розовые, золотые и темно-зеленые, как папоротник. Гладкие и приятные.
— О, Александр! Они такие красивые!
— Тебе нравится?
— Конечно, да!
Она перегоняла их из руки в руку, и он видел искреннее удовольствие в ее глазах.
— Я подумал, что они лучше тех твоих старых цветных четок.
— Но у меня нет никаких… — начала она и покраснела. Она пошла к своему ларчику и вытащила оттуда нить с четками, которые старая матушка Гортензия дала ей.
— Вот эти?
Он кивнул и добавил:
— Теперь понятно, почему ты никогда не вытаскивала их при людях. Они… примитивные.
Ее щеки покраснели еще сильнее.
— Они совсем не для молитвы…
— Тогда для чего?
Она одарила его оценивающим взглядом, затем указала на скамью на другой стороне комнаты.
— Сядь, я расскажу тебе.
Щедрая волна жара исходила от очага, в котором горел отборный древесный уголь. Самый лучший древесный уголь, как заметил Харви, с коричневатой поверхностью, расточительно использовался для обогрева просторной личной кельи приора. Похоже, несмотря на аскетическую худощавость, приор Алкмунд не привык себе ни в чем отказывать.
— К нам не часто приезжают гости из дальних пределов страны, — сказал Алкмунд мягко и предложил Харви сесть на стул с подушками возле жаровни с древесным углем. — Вы предприняли столь дальнее путешествие в одиночку, в такую плохую погоду — вы подвергали опасности свое здоровье.
Харви пошевелил ногой и сделал усилие, чтобы сохранять спокойствие. Приор выглядел, как икона святого мученика, но с аристократической осанкой и жидкими напомаженными бровями. Тонзуру окружал аккуратный ежик льняных волос.
— Благодарю вас за заботу, но с моим здоровьем все нормально. Я могу делать большинство вещей, которые может сделать любой дееспособный человек. Погода неприятная, я согласен, но я вынослив и терпелив. И я не встретил опасностей. Или должен был?
— Леса всегда опасны для тех, кто не знаком с их глубинами, отец Харви, — произнес Алкмунд спокойно, пока наливал темное вино из кувшина в две кружки.
— Говорят, вы обычно путешествуете по округе, раздавая милостыню, без спутников.
Алкмунд улыбался, но глаза смотрели с неослабевающим вниманием.
— Могу ли я спросить, кто сказал вам?
— Один из ваших соседей, Реджинальд де Монруа, — ответил Харви.
Не стоило говорить Алкмунду, что он тоже Монруа.
— Он дал мне в спутники двух охранников и сказал, что волки — и двуногие, и четвероногие — охотятся в этих местах. Разве вы не боитесь?
— Нет, с Господом на моей стороне.
Харви сделал глоток вина. Оно было приятным и крепким, но теплым, как кровь, — и его чуть не вырвало.
— Я принес письма, — сказал он. — От архиепископа, который вызывает вас на собрание относительно посвящения людей, которые избрали монашескую жизнь, и относительно послушников. — Склонясь к кожаной сумке, он достал запечатанный свиток и протянул его Алкмунду.
— Архиепископ прислал одноногого калеку-монаха как своего посланника? — Длинные, худые пальцы избегали контакта с пальцами Харви, когда приор брал свиток.
— Внешний вид — это еще не все, — сказал Харви мягко и сложил руки на сутане. Прошли времена, когда он ощущал удобную тяжесть меча на левом бедре.
Алкмунд разрезал печать на свитке.
— Воистину так. Вы, должно быть, человек редких талантов, если добиваетесь успехов, несмотря на инвалидность. Как вы лишились ноги?
— Несчастный случай с косой, — ответил Харви, пожимая плечами и давая понять своим тоном, что не хочет обсуждать эту тему. — А у вас здесь мало новичков?
— Мы получаем свою долю, — сказал Алкмунд и нахмурился, изучая послание.
«Получаешь, сколько можешь», — подумал Харви, наблюдая за ним из-под полуопущенных век.
Сторонники преобразований в лоне церкви требовали прекращения посылки малолеток в монастыри. Монашеская жизнь должна заключаться в сознательном выборе, и постриг должны принимать взрослые юноши. Но это было не все. Харви знал, что епископ Стаффорда написал, будто бы слышал ужасные истории о чрезмерно горячем единении монахов в общине Кранвелла и пагубных веяниях с Востока.
Алкмунд пристально посмотрел на Харви.
— Вы знаете, что заключено в этих письмах?
— Только в общих чертах.
— Никогда не было жалоб на этот монастырь, — сказал Алкмунд, оттопырив губы. — Благородные семьи посылали сюда своих сыновей, чтоб те получили приличное образование. Мы гордимся нашими принципами и нашим благочестием. Однако те, кто распространяет эту клевету, заслуживают суровой кары.
Лицо Харви потемнело, а глаза наполнились гневом. Он не мог говорить, потому что знал, что, если двинется, он проткнет тонкое горло приора Алкмунда.