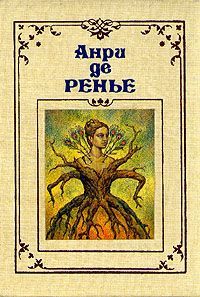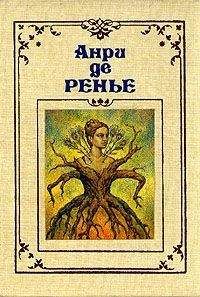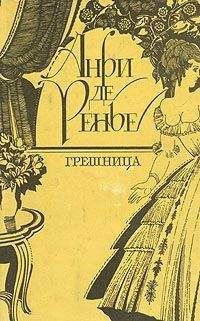Анри Ренье - Ромэна Мирмо
Пьер де Клерси позвонил у калитки. Минуту погодя старая женщина вышла отворить. Он вошел. Сырой сад был полон цветов, за которыми чувствовался заботливый уход. В темной и блестящей листве магнолии распускался большой цветок, белый и мясистый. Он напомнил Пьеру героинь романиста, щеку мадам Арну, страстное тело мадам Бовари, тайные благовония Саламбо. Тут и там, отяжелевшие от дождя, розы осыпались на песок. В глубине выстроились в шахматном порядке тополя. Это все, что оставалось от крытой аллеи, по которой Флобер любил гулять, «рыча» свои гармонические и звучные фразы.
Старуха отворила Пьеру дверь в павильон.
В нем была всего одна квадратная комната. Стены были обшиты деревом, выкрашенным в белый цвет. Из окон два выходило в сад, два на дорогу. Эти последние вели на балкон. Посреди комнаты, у стола, стояло кресло Флобера. В одном из простенков, между двух стеклянных шкафов, возвышался его гипсовый бюст.
Старуха указала Пьеру де Клерси на эти шкафы.
— Воспоминания о месье Флобере.
Пьер де Клерси подошел ближе.
На полках были расставлены разного рода предметы. Свинцовая чернильница — чернильница писателя. Она изображала жабу. Возле чернильницы — гусиное перо, одно из тех, которыми пользовался Флобер. К куску картона была прикреплена глиняная трубка с обкуренной головкой, которую Флобер, быть может, курил, глядя на позолоченного деревянного Будду, некогда украшавшего камин, как символ мудрости и небытия, а теперь положенного на нижнюю полку витрины.
Пьер де Клерси продолжал осмотр. Тут были также корректуры, правленные Флобером; письма его руки. Некоторые из них, наверное, писались на этом самом столе, вот этим самым пером. Пьер де Клерси был взволнован. Он рисовал себе в кресле крупное тело Флобера, энергичное и разбитое. Он представлял себе его мощное, сангвиническое и измученное лицо.
Старуха оставила его одного. Он мечтал.
Так вот где Флобер жил, мыслил, работал, и в память о нем этот павильон сохранили. Так, значит, люди чтят не только действие. Так, значит, действие — не последнее слово жизни, не высшая ее цель, не высший ее смысл. Пьер де Клерси задумался. Он смотрел с маленького балкона на вид Сены, который Флобер столько раз созерцал. Сейчас по реке к Руану поднимался большой пароход. Его высокий красноватый корпус напоминал о дальних морских переходах, о долгих плаваниях. И в памяти у Пьера запели фразы из «Воспитания чувств». Он повторял про себя знаменитое место: «Он узнал долгие путешествия, холод пробуждения в палатке, горечь прерванной дружбы». Вдруг он вздрогнул. Автомобиль трубил. Он поторопился купить у старой привратницы несколько открытых писем. Мотор ждал его у калитки…
Когда в излучине реки показался Руан, со своими башнями, со своими колокольнями, автомобиль уже катил среди доков и сараев. Руанский порт мало-помалу захватил оба берега, которые он окаймляет своими набережными, куда причаливают большие корабли: грузовые пароходы, наливные суда, всякого рода парусники. Понтиньон и Гомье издавали восклицания. Они восхищались паровыми кранами, перегрузочным мостом, нагромождением ящиков, тюков и бочек. Пьер де Клерси слушал их рассеянно. Его внимание было приковано к изумительной игле собора, с необычайной смелостью возносящейся в небо. И как только они прибыли в гостиницу «Англия», он сразу же повел Гомье и Понтиньона в город. Ему хотелось взглянуть на странный памятник, вздымавший над Руаном этот удивительный воздушный рог. Времени у них было достаточно. Обед был назначен только в восемь часов, потому что Ла Мотт-Гарэ совещался с Эктором де Ла Нерансьером, толстощеким, розовым юношей, чьи наивные голубые глаза выражали безграничное восхищение красноречивым вождем «Тысячи чертей».
За обедом все были очень веселы. Ла Мотт-Гарэ разглагольствовал. Он решил окончательно ослепить Эктора де Ла Нерансьера, который забывал есть и взирал на него изумленными глазами. Ла Мотт-Гарэ относился к милейшему де Ла Нерансьеру со снисходительной добротой. Он соблаговолил поблагодарить его за службу и обещал в скором времени представить его герцогу Пинерольскому. Ла Нерансьер, действительно, подсказал «мысль». Обращаясь к Гомье, Понтиньону и Клерси, Ла Мотт-Гарэ говорил:
— Да, мысль, и мыслью нашего друга Ла Нерансьера я даже поделюсь с вами, хоть вы и профаны. Ну, так вот. Вам известно или, может быть, неизвестно, что некий немецкий банкир, носящий звучное имя Хеллерштейн, купил недавно в окрестностях Руана великолепный замок Карквиль. Вы молчите. Вам не тошно, что такая жемчужина попадает в руки такому дяденьке? Ну, а Ла Нерансьеру тошно, и вот что он придумал. В один из ближайших дней, под вечер, «Тысяча чертей» захватит Карквиль. Что вы таращите глаза? Нет ничего проще. Замок стоит одиноко, а телефонные провода перережут. Засим Хеллерштейна схватят, разденут донага и зададут ему здоровую взбучку, потом сунут его в автомобиль и высадят на Старом рынке или перед Большими часами, с тряпкой во рту и завязанными глазами. Согласитесь, что номер действительно первосортный. Ах, дорогой мой Ла Нерансьер, тысяча чертей и одна ведьма!
Ла Мотт-Гарэ, вне себя от восторга, хлопнул Ла Нерансьера по плечу и осушил стакан. Гомье и Понтиньон прыснули со смеху. Шутка казалась им отличной. Пьер де Клерси находил ее посредственной и молчал. Ла Мотт-Гарэ его окликнул:
— Вы ничего не говорите, Клерси; вас не соблазняет самому приложить руку? Напрасно. Когда вернется король, курица в супе будет не для мокрых куриц.
Пьер де Клерси пожал плечами. Он привык к упрекам Ла Мотт-Гарэ, как и к его экстравагантным проектам. Он отлично знал, что дело ограничится словами и что немецкого ростовщика никто не потревожит в его Карквильском замке. Все это говорилось только за столом.
Встали они из-за него довольно поздно, после многих возлияний, которые бедный Ла Нерансьер перенес довольно плохо, так что его пришлось отправить домой с провожатым. Тем не менее Ла Мотт-Гарэ не хотел отпускать его, не облобызавшись с ним. Сам он тоже был довольно возбужден и желал во что бы то ни стало вернуться в Париж в ту же ночь. Он заявлял, что его присутствие необходимо там на следующее же утро. Он должен был представить отчет о поездке его светлости герцогу Пинерольскому. Он был сильно на взводе, и Гомье и Понтиньон смотрели не без тревоги, как он берется за руль.
Они были правы, ибо не успел автомобиль тронуться, как Ла Мотт-Гарэ чуть не задавил старого господина и не наехал на тумбу. Гомье и Понтиньон подняли крик. Они грозились слезть, если Ла Мотт-Гарэ не передаст управление шоферу или Пьеру де Клерси. Ла Мотт-Гарэ сперва брыкался, но потом согласился уступить место Клерси. Хоть он и оказывал сопротивление, он все же смутно сознавал, что так будет лучше. Он примостился на подушках и сказал: