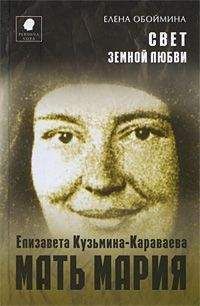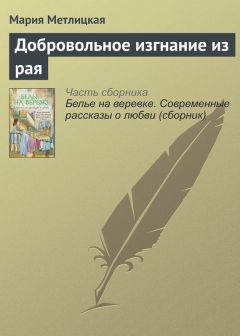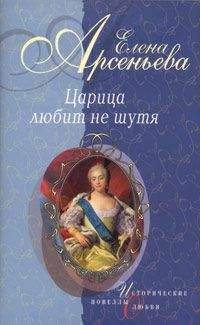Елена Арсеньева - Берег очарованный (Елизавета Кузьмина-Караваева, мать Мария)
Она, истинно верующая, смиренно и проникновенно воспринимала страдания, на которые была обречена. Она чаяла воскресения из мертвых и не боялась смерти. Этому она учила других и жертвовала ради них своими личными удобствами, никогда не отчаиваясь, никогда ни на что не жалуясь.
В лагере переклички происходили ночью: всех будили в три часа, и надо было очень долго ждать под открытым небом, пока заключенные всех бараков не будут пересчитаны. Мать Мария воспринимала все это очень спокойно и говорила: «Ну вот, и еще один день проделан. И завтра повторим то же самое. А потом наступит один прекрасный день, когда всему этому будет конец».
Она никогда не делала различия между людьми, одинаково легко и прочно сходясь с пожилыми и молодыми, разных убеждений, разных верований, национальностей. Ее обожали все. Люди были отторгнуты от своих семей, но мать Мария взяла их под свое крыло и в какой-то мере заменяла им семьи.
Конечно, вся лагерная система была направлена на сознательное истребление человеческого достоинства. Но она оказалась бессильна против силы духа матери Марии.
Как-то раз перед началом переклички она прохаживалась между рядами заключенных, чтобы согреться. Заговорила с русской заключенной, но эсэсовка, увидев, что узница стоит не на своем месте да еще и разговаривает, хлестнула мать Марию по лицу ремнем. Мать Мария, не взглянув на нее, договорила начатую фразу по-русски.
— У меня было такое чувство, будто ее и нет передо мной, — рассказывала она потом.
Не покорность давала ей силу переносить страдания, а цельность и богатство ее внутреннего мира. Она была убеждена в призрачности зла:
— Зло вечное не может существовать! Высокие трубы крематория дымились непрерывно. Это неотступно напоминало о том, какой конец ждет всех заключенных.
— Только здесь, над самой трубой, клубы дыма мрачны, — говорила мать Мария, — а поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы затем совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете уходят в вечность для новой радостной жизни на очарованном берегу.
Узницы удивлялись красоте ее слов, удивлялись, как она может их находить. Этот берег очарованный грезился ей всю жизнь, с того самого дня, когда она, еще в феврале 1908 года, услышала о нем впервые от… от одного человека, называющего все по имени.
31 марта 1945 года, в Великую пятницу, уже хорошо слышалась канонада, провозвестница приближения наступающей Советской армии. В два часа дня — в час агонии Христа! — мать Мария подошла к грузовику, который увозил приговоренных к немедленной смерти в Югендлагерь: там находилась газовая камера. Говорили, мать Мария заменила одну из узниц нарочно, чтобы до последней минуты ободрять остальных.
Возможно. Это было вполне в ее духе. Некоторые настаивают, что она заменила еврейскую девушку. Возможно и это, хотя точных свидетельств нет. Да и какая разница, кого она спасала — еврейку или француженку, русскую или даже немку?
Впрочем, существует рассказ одной из узниц, по которому мать Марию, совершенно обессиленную, надсмотрщик сам включил в группу обреченных.
Что это меняет? Только подтверждает, что свой мученический венец она не снимала ни на миг, до самого исхода в пещь огненную.
Через два дня под эгидой Красного Креста началось освобождение заключенных Равенсбрюка…
Больше всего Елизавета боялась, что ее ребенок (она была снова беременна) родится на борту парохода, когда беглецы будут выбираться из России. Но он родился еще на этом берегу. Потом они нашли временное пристанище в Константинополе: Елизавета, Даниил Скобцов, Софья Борисовна Пиленко, девочки Гаяна и Надя и только что родившийся Юра. Дальше путь лежал во Францию.
Увы, никаких средств к существованию у семьи не было. Елизавета, которая и лак была близорука, окончательно испортила глаза, пытаясь заработать шитьем кукол. Правда, Даниилу повезло — он не встал к станку на заводах «Рено», как многие из русских эмигрантов, а выдержат экзамен и стал шофером такси. Это был более легкий, более «интеллигентный» заработок. Впрочем, не так уж он был велик: от сорока до пятидесяти франков в день.
Однако все заботы — и финансовые, и другие — стали казаться несущественными, когда заболела Надя. Заболела, а потом умерла от менингита.
Елизавета обвиняла в этом только себя. Она понимала, что никогда не любила дочь так, как того, другого, выдуманного человека, которому она оказалась не нужна. Стремление принести себя в жертву одному, пусть гениальному, пусть любимому человеку, может быть, стоило жизни ее ребенку…
Но в глубине ее души к чувству вины за смерть дочери примешивалась еще и вина… перед Блоком. Перед ним-то — в чем?! Размышляя об этом, Елизавета вдруг осознала однажды: ее отметил Господь, который, как известно, дает своим избранным чадам изведать величайшее счастье и величайшее горе в жизни, прежде чем упокоит их навеки.
Не слепи меня, Боже, светом,
Не терзай меня, Боже, страданьем.
Прикоснулась я этим летом
К тайникам твоего мирозданья.
Средь зеленых, дождливых мест
Вдруг с небес уронил ты свой крест.
И все-таки она не тотчас смогла понять свое новое назначение. Вернее — предназначение. Понадобилось еще несколько лет мирской жизни, прежде чем Бог снова «уронил свой крест» перед Елизаветой Скобцовой.
С мужем она разошлась. Смерть дочери уничтожила то, что привязывало их друг к другу. Гаяна, старшая дочь Елизаветы, выросла и стала убежденной коммунисткой. Она грезила возвращением в Россию, и друг семьи, писатель Алексей Толстой, сам недавно туда вернувшийся, помог ей.
Спустя два года Гаяна умерла от тифа в Москве. На сей раз мать даже не могла быть на похоронах. Ей оставалось молиться, писать стихи и мучительно решать: как жить дальше?
Тяжелы твои светлые длани,
Твою правду с трудом понимаю.
Крылья дай отошедшей Гаяне,
Чтоб лететь ей к небесному раю.
Мне же дай мое сердце смирять,
Чтоб тебя и весь мир твой принять.
Постепенно Елизавета осознала, что утешение находит только в одном: утешая тех, кому на свете еще тяжелей, чем ей самой. Ей как-то удавалось находить для них слова, которые доходили до самого сердца. Удавалось передать свою неизбывную веру и надежду на то, что каждому человеку когда-нибудь откроется некий берег очарованный, очарованная даль… Как кстати вспоминались те давние слова! Повторяя их, она простила себя за то, что слишком сильно любила. Видимо, и это тоже была ноша, наложенная на нее Господом. Благая ноша…
Теперь она сама искала несчастных. Их было много среди русских эмигрантов. Правда, некоторым было мало слов.