Сергей Минцлов - Гусарский монастырь
— Умница, ах, какой умница! Ах, как он кушает славно! Как те… — На лице Марьи Михайловны изобразился ужас, и она, побагровев, что утопленница, вместе со стулом поехала в сторону: мопс, кончив есть, обнюхал ее, затем поднял заднюю ногу и оросил ее новое шелковое платье.
— Что, обделал вас? — спросила хозяйка. — Это у него привычка такая. Уведи его вон! — приказала она одной из трех приживалок, вошедших во время их разговора и скромно усевшихся на стульях около стены.
— Нет, ничего, ничего, не надо… Я люблю собачек! — забормотала гостья, стараясь вызвать улыбку на исказившееся лицо. «Чтоб ты сдох, проклятый, вместе со своей дурой-барыней!» — яростно бушевало в то же время у нее в груди.
— Как вы поживаете, не скучаете здесь в глуши? — начала, совершенно оправившись и с прежней любезной улыбкой, Грунина.
— Не скучаю… Она мне читает… — Людмила Марковна кивнула на Леню. — Всю библиотеку, кажется, скоро перечитаем.
— Вот как? — удивилась гостья и в лорнет посмотрела на девушку. — Большая у вас библиотека?
— Тысяч пять томов будет… От мужа еще осталась. Французская: на нашем языке умного ведь еще ничего не удосужились написать!
— Шесть тысяч… — поправила Леня.
— Ну, тогда все понятно… — протянула Марья Михайловна.
— Что понятно?
— Театр ваш… — с самым невинным видом отозвалась гостья.
Пентаурова изумилась.
— Что ты врешь, мать моя? Какой наш театр?
— Да вот, что Владимир Степанович в Рязани строит?
Хозяйка повернулась в сторону Лени, и их вопросительные взгляды встретились.
— Строит театр? — переспросила старуха.
— Ну да, и огромный-преогромный: чуть не половину парка вдоль улицы занял!
— Вот что… Ну, что ж, шалый был, шалым и остался! — изрекла Пентаурова и опять обратилась к Лене: — Это он для пьесок своих затею затеял!
У Марьи Михайловны дух сперло от услышанной новости.
— Для пьесок? Так он пишет, значит?
— Как же, писатель… из тех, что за писанья из столиц выгоняют!
— Что же такое он написал? — вся сомлев, прошептала гостья.
— Глупость! — отрезала старуха. — Умное трудно, а глупость всякий может.
Пентаурова говорила о сыне с таким пренебрежением, что Груниной сразу стало ясно, что отношения между ними или самые скверные, или даже совершенно не существуют. Она почувствовала, что дальше сидеть не может и должна, даже обязана, как можно скорее возвращаться в Рязань.
— Милая, будьте добры, узнайте, готова ли моя коляска? — притворно-ласково обратилась она к Лене, но вместо нее вскочила одна из приживалок и, сказав: «Сейчас, сейчас», поспешила в дом.
Коляска оказалась готовой, и Пентаурова задерживать гостью не стала.
— Я так рада, так благодарна случаю, что удалось повидать вас! — трещала Грунина, опять склонив голову набок и горячо, обеими руками пожимая при прощании холодную, сухую руку хозяйки.
— Будете в наших краях — загляните… — равнодушно ответила Пентаурова и опять легла к своем кресле.
Лене Грунина руки не подала и, кивнув ей: «Прощайте, милая», оглянулась еще раз на кресло, из которого виднелись только заостренный нос и бледные пальцы Пентауровой, лежавшие на ручках, и покивала им несколько раз с нежною улыбкой.
Провожать гостью пошли только три приживалки. На крыльце ее встретил мопс, обошедшийся с нею на балконе, как со стенкой, и Марья Михайловна, воспользовавшись мигом, когда шедшая рядом с ней приживалка отвернулась, так поддала ногой «чудному песику», что тот перевернулся через голову и с визгом, шлепаясь, что мешок, по ступенькам, полетел с лестницы.
— Бедненький, упал! — сострадательно проговорила Грунина.
Приживалки с аханьем бросились к завывавшему страдальцу и схватили его на руки; между ними вспыхнула ссора из-за права понянчить сокровище, а Марью Михайловну ее собственный лакей с помощью казачка в желтом балахоне втиснул в коляску.
— Прощайте! — величественно кинула она на прощанье, откинувшись на кожаную подушку спинки. — Домой!
— Пошел! — крикнул кучер. Форейтор щелкнул бичом, и четверик рысью покатил тяжелый экипаж к воротам.
Глава VIII
Дома с нетерпением ждали возвращения Марьи Михайловны.
Особенное нетерпение и даже волнение проявила Клавдия Алексеевна, забежавшая около полудня к Груниным и вдруг услыхавшая там, что Марья Михайловна, не сказав никому ни слова, совершенно молча, одна-одинешенька села в коляску и уехала неизвестно куда за город.
Разумеется, после такого «пассажа» Клавдия Алексеевна никуда отлучиться не могла, и то и дело прохожим казалось, будто из-за цветов, стоявших на раскрытых окнах дома Груниных, неизвестно зачем чуть не на середину улицы высовывают обгорелую палку.
Нетерпение проявляла и Нюрочка, и только один Антон Васильевич, обретавший дар слова во время отсутствия Марьи Михайловны, благодушествовал, погуливал по комнатам и заводил с обычною у них гостьей, Соловьевой, не лишенные философского оттенка разговоры.
Наконец около четырех часов дня показался порядком взмыленный вороной четверик Марьи Михайловны и свернул в ворота их дома: подъезд у Груниных был со стороны двора.
Клавдия Алексеевна ринулась ей навстречу; за ней поспешили Нюрочка и Антон Васильевич.
— Милая, да что ж это вы с нами сделали? Можно ли так уезжать одной? Хоть бы меня захватили! — завыкликала Клавдия Алексеевна, завидев приехавшую и протянув к ней обе руки, наверное, принадлежавшие раньше Кощею.
Марья Михайловна, молча, с видом человека только что совершившего нечто великое, подымалась по лестнице, поддерживаемая под обе руки лакеями.
— Здравствуйте, здравствуйте!… — проронила она в ответ. — Устала я…
— Мы волновались, мы тревожились! — продолжала трещать Клавдия Алексеевна. — Ума не приложим — куда вы могли вдруг так собраться? Где вы были?!
— Как где? — Марья Михайловна даже остановилась и пожала плечами. — Разумеется, у Пентауровой…
— У Пентау… — Клавдия Алексеевна почувствовала, что сердце ее может не выдержать, и прижала его рукою.
— Чему вы все так удивились? — продолжала Марья Михайловна, обводя глазами трех своих слушателей, застывших в разнообразных позах. — Ну да, у Пентауровой: мы же с ней старые знакомые…
Марья Михайловна с помощью дочери освободилась от шляпки и проследовала прямо в столовую.
— Обедать! — приказала она лакею.
— У Пентауровой… Вы старые знакомые? — бормотала Клавдия Алексеевна. — Но почему же раньше вы не вспомнили об этом?
— Ну, вот подите. Прямо выскочило из головы! Давно не видались с ней; она болеет все, никого не принимает, так вот и вышло!
— А вас приняла?
— Еще бы! Мы с ней приятельницы были! Большой мой друг была!
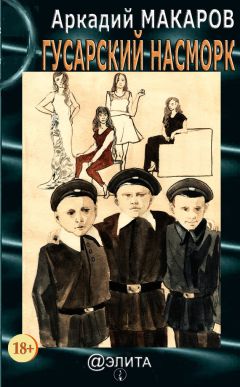

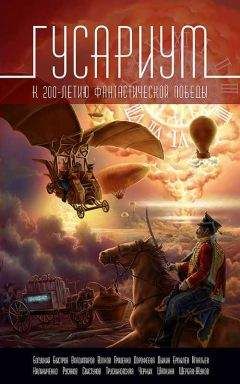
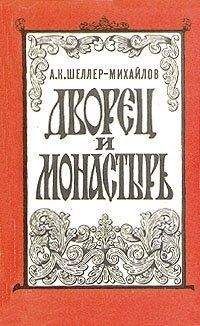
![Сергей Минцлов - Приключения студентов [Том I]](/uploads/posts/books/22840/22840.jpg)