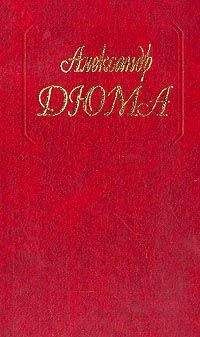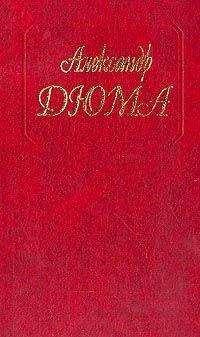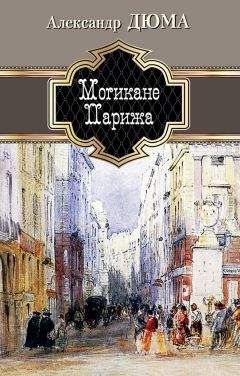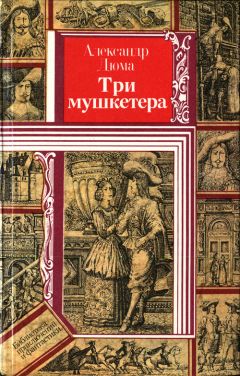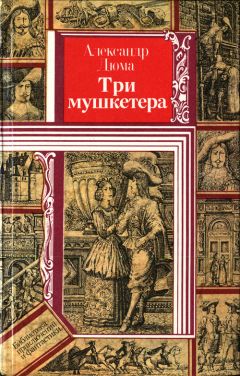Александр Дюма - Парижские могикане
— Посмотри! — приказал он.
— Ну, смотрю, — отозвался Жан Бык. — Что дальше?
— Что ты видишь?
— Вижу трех щёголей, которым я обещал задать трепку и которые рано или поздно ее получат.
— Ты видишь трех молодых людей, прилично одетых, элегантных, из хорошего общества; они совершили оплошность, придя в этот притон, но это еще не причина для драки.
— Чтобы я затевал с ними драку?!
— Уж не хочешь ли ты сказать, что они сами подстрекали тебя и четверых твоих приятелей?
— Да ведь вы же видите, что они-то смогли защититься…
— Да, потому что на их стороне ловкость, а главное — правота… Ты думаешь, сила — это всё, стоило только сменить имя Бартелеми Лелон на имя Жан Бык? Только что тебе доказали обратное. Дай Бог, чтобы урок пошел тебе на пользу.
— Да говорю вам, что это они ругали нас негодяями, бездельниками, мужланами…
— А за что они вас так называли?
— Они сказали, что мы пьяны.
— Я спрашиваю, почему они так сказали?
— Мы хотели, чтобы они затворили окно.
— А почему ты не хотел оставить окно открытым?
— Потому что… потому что…
— Почему же? Ну!
— Потому что я не люблю сквозняков, — ответил Жан Бык.
— Нет, потому что ты был пьян, как справедливо заметили эти господа; потому что ты искал повода для драки, ухватился за представившийся случай и затеял ее; потому что до этого ты поссорился дома, а сейчас хотел сорвать зло на невиновных из-за капризов и измен мадемуазель…
— Молчите, господин Сальватор! Не называйте ее имени! — поспешил перебить его плотник. — Несчастная! Она меня в гроб вгонит!
— Вот видишь: я угадал.
Сальватор нахмурился и продолжал:
— Эти господа правильно сделали, что отворили окно: здесь нечем дышать. А для сорока человек и второе окно отворить не помешает. Вот ты это сейчас и сделаешь.
— Я?! — застыв на месте, взвыл плотник. — Чтобы я отворил одно окно, когда я требую закрыть другое?! Я, Бартелеми Лелон, сын своего отца?!
— Ты, Бартелеми Лелон, пьяница и забияка, позоришь имя своего отца и, стало быть, хорошо сделал, что взял кличку. Ты сейчас же откроешь окно в наказание за то, что вызвал этих троих господ на драку — это говорю тебе я!
— Не открою, разрази меня гром! — потрясая кулаком, проревел Бартелеми Лелон.
— Раз так, я тебя больше знать не хочу ни под каким из твоих имен. Теперь ты для меня всего-навсего грубиян и негодяй. И я гоню тебя прочь.
Он повелительно указал на дверь и произнес:
— Пошел вон!
— Не уйду! — завопил плотник, брызгая слюной.
— Именем твоего отца, которого ты только что помянул, приказываю тебе уйти!
— Нет, гром и молния! Нет, я никуда не пойду! — упорствовал Бартелеми Лелон, садясь верхом на скамейку и схватившись за нее обеими руками, словно собирался в случае нужды пустить ее в ход.
— Ты хочешь, чтобы я рассердился? — тихо проговорил Сальватор, словно и не угрожал вовсе.
И он двинулся на плотника.
— Не подходите, господин Сальватор! — вскричал тот, отодвигаясь на противоположный край скамьи по мере того, как молодой человек приближался. — Не подходите!
— Ты уйдешь? — спросил Сальватор.
Плотник поднял скамейку, словно намеревался ударить молодого человека.
Потом, отшвырнув ее, крикнул:
— Вы ведь знаете: можете делать со мной что хотите, и я скорее отрежу себе руку, чем вас ударю… Но по своей воле… Нет! Нет! Нет! Я не уйду!
— Ничтожный упрямец! — воскликнул Сальватор, схватив плотника одной рукой за галстук, другой — за пояс.
Жан Бык взревел от ярости:
— Вы можете меня вынести, я подчинюсь, но сам не уйду никогда!
— Да будет так, как ты хочешь, — согласился Сальватор.
С силой тряхнув безвольно обвисшего великана, он, если можно так сказать, оторвал его от пола, как вырвал бы дуб из земли, поднес к лестнице и спросил:
— Пойдешь вниз сам или предпочитаешь скатиться?
— Я в вашей власти: делайте со мной что вам угодно, сам я не уйду никогда!
— Ну, так я прогоню тебя силой, ничтожество!
И он, раскачав, бросил его, словно мешок, с пятого этажа на четвертый.
Было слышно, как тело Жана Быка, или Бартелеми Лелона — как больше нравится читателю называть плотника: его настоящим именем или по прозвищу, — скатывается, подпрыгивая, со ступеней.
Толпа не издала ни звука, ни вздоха: она была довольна, она наслаждалась зрелищем.
Трое друзей были глубоко взволнованы. Весельчак Петрус помрачнел, флегматичный Людовик почувствовал, как сильно забилось его сердце, и только чувствительный поэт Жан Робер внешне остался невозмутим.
Когда Сальватор вернулся без плотника, поэт вложил шпагу в ножны и смахнул платком пот со лба.
Потом он подошел к Сальватору и протянул ему руку.
— Спасибо, сударь. Вы избавили меня и моих друзей от этого пьяницы, в которого словно дьявол вселился. Только я весьма опасаюсь последствий этого падения.
— Можете за него не беспокоиться, сударь, — проговорил Сальватор, протягивая в ответ белую аристократическую руку, которая только что показала такое чудо силы. — Он отлежится две-три недели — вот и все, а в это время будет горько оплакивать то, что произошло.
— Как?! Неужели этот свирепый человек умеет плакать? — изумился Жан Робер.
— Он будет заливаться горькими, кровавыми слезами, смею вас уверить… Это добрейший и честнейший человек из всех, кого я знаю. Так что не беспокойтесь о нем. Подумайте лучше о себе.
— Обо мне?
— Да… Вы позволите дать вам дружеский совет?
— Говорите, сударь.
Сальватор понизил голос, словно хотел, чтобы его слышал только тот, к кому он обращался:
— Поверьте мне: вам лучше здесь не показываться, господин Жан Робер.
— Вы меня знаете? — поразился поэт.
— Как и все, — с изысканной вежливостью отвечал Сальватор. — Кто не знает одного из наших прославленных поэтов?
Жан Робер залился краской.
— А теперь, — заговорил совсем другим тоном Сальватор, обратившись к толпе, — вы довольны, не так ли? Надеюсь, вы получили за свои деньги все, чего желали? Сделайте одолжение: убирайтесь поскорее. Здесь хватает воздуха только на четверых; иными словами, друзья мои, я хочу поговорить с этими господами без свидетелей.
Толпа повиновалась, словно ватага школьников — голосу учителя; все стали чинно спускаться, почтительно приветствуя — кто поклоном, кто голосом, кто жестом — молодого человека, который, похоже, командовал здесь всеми; а тот после бурной сцены был взволнован не более, чем небосвод после бури.