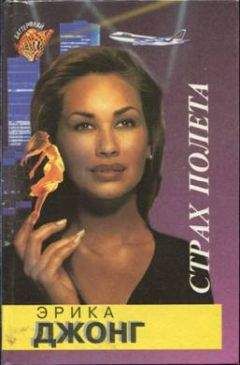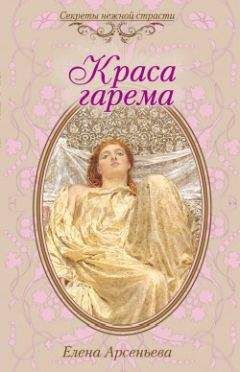Елена Арсеньева - Год длиною в жизнь
Александра, кажется, одна ходила за пони, на котором сидела Оля. Ну, они всего три месяца назад обосновались в Париже, еще не успели перенять здешних манер. К тому же чуть ли не в сорок лет впервые родить ребенка – это не так просто, на самом-то деле. Невольно трясешься за него каждую минуту. Сколько намучилась Александра, пока выдержала девять месяцев, сколько реальных и воображаемых страхов натерпелась! Почти всю беременность она провела в загородной подмосковной клинике, где лежала на сохранении. Игорь, ее муж, ворчал, что скоро забудет, как выглядит родная жена. Конечно, он звонил ей каждый день, то из Энска, то из Москвы, то из Парижа – работа в русско-французском торговом представительстве была связана с бесчисленными командировками, – звонил и рассказывал, что вспоминает о ней, глядя на фотографии. Каждый раз подробно описывал, какую ее фотографию сегодня смотрел.
Как-то раз позвонил из Энска:
– Мама Вера дала мне снимок, где тебе всего два года. Ты в каком-то ужасно нелепом платье сидишь в вашем дворе на Варварке, в песочнице, и плачешь. А твой отец дает тебе мороженое. Помнишь, было такое мороженое по тринадцать копеек, с изюмом, вкусное необычайно…
– Помню и мороженое, и фотографию, – радостно ответила Александра. – Там еще слева баба Оля стоит, а вокруг нее много цветочных горшков: она вышла свои герани пересаживать.
– Точно, – радовался Игорь. – Так вот кто начал эти красные герани разводить, которые у вас по всей квартире растут!
– Нет, их еще моя прабабушка разводила, Александра Константиновна. Та, в честь которой меня назвали.
– Да? Вон какая давняя традиция? А я думал, от них фанатеет мама Вера…
Мамой Верой называли тетку Александры, сестру ее отца. Она, собственно, и вырастила Сашу после смерти матери. Мать звали Рита Ле Буа, она была француженка, намного старше отца. Влюбилась в него и решила остаться в России, но умерла от родов. Отец потом так и не женился. «Мою любимую женщину зовут пресса, – говорил он. – Я однолюб!» Да, он считался первым журналистом Энска, подпись А. Русанов (это был его псевдоним, в честь его двоюродного деда, тоже бывшего журналиста) постоянно появлялась в печати. Потом он стал собкором «Известий» в Поволжье, а теперь у него своя собственная газета, которая называется «Энский листок». Газету ему Игорь купил. Зять. Муж Александры Аксаковой.
Вся семья – и мама Вера, и отец, и мамы-Верин муж, и баба Оля с дедом Колей – они все страшно переживали, что у Александры нет детей. Дед с бабкой так и не дождались правнуков. Дед погиб, когда Сашенька еще маленькая была, в семьдесят пятом, – разбился на своей старой «Победе», а баба Оля умерла в девяностом году, когда в России начался перестроечный кошмар, когда начали копаться в гробах и укорять Георгия Аксакова за то, что его отец некогда служил в НКВД. Как будто родителей себе выбирают! Тогда Саша и решила начать писать. Она окончила филфак университета и совсем было собиралась в школе преподавать, но отец рассказал ей о том, кто на самом деле был его отец, – и она засела в архивах. Все, что могла, нашла о первом Георгии Смольникове, начальнике сыскной полиции Энска, о его друге Григории Охтине, ну и про Георгия Смольникова-Полякова кое-что нашла. Думала, получится просто газетная статья, а получилась книжка – хоть и маленькая, но интересная. Ее сначала выпустили в частном издательстве в Энске, потом московское издательство «Глобус» заказало Александре роман по этим материалам. Вот так она и сделалась писательницей.
– Займитесь историей русской эмиграции, – сказали ей в издательстве, когда узнали, что она будет жить в мужем в Париже. – Подготовьте для нас книжку художественных очерков. Только чтобы не известные имена там мелькали, а какие-то новые. Одни и те же биографии уже надоели, ищите новые судьбы, новые факты. Может быть, даже своих родных найдете среди эмигрантов!
Прадед Александры Дмитрий Аксаков в самом деле эмигрировал после Гражданской войны во Францию и погиб в сороковом году – это все, что узнала Александра от родных. При одном слове «Париж» они замыкались и мрачнели, а когда мама Вера и отец прослышали, что Игорь будет в Париже жить и работать, у них вообще чуть ли не истерика началась, совершенно непонятно почему.
Заказ издательства писать очерки о русских эмигрантах в Париже продвигался медленно. Александра была занята дочкой. С детским садом пока не получалось, а с няньками в Париже есть свои проблемы – они ведь либо негритянки, либо арабки. У русских, оказывается, масса расовых предрассудков, кто бы мог подумать! Зато теперь Александра знает все детские парки Парижа, все карусели (Олечка обожает карусели!), а Тюильри с его пони и осликами – любимое их место. Иногда они уходят сюда на полдня, от завтрака до обеда. Александра берет с собой вязанье или сборник стихов (она обожает поэзию – Бальмонта, Верлена, Ахматову, Блока, Превера, Пушкина, Шекспира, Адамовича), берет игрушки для Оли – и они чудно проводят время в этом саду королей и королев, рядом с Сеной. Надоест Тюильри – гуляют на набережной. Надоест набережная – идут на площадь Мадлен, бродят по ступенькам старой церкви…
Наконец-то Олю удалось стащить с пони, но она немедленно пожелала кормить уток. Пришлось купить в маленьком кафе сандвич – багет с помидорами и сыром.
– Утя, утя, утя! – кричала Олечка, перевешиваясь через бортик фонтана и пытаясь накормить утку из рук.
Утка, необыкновенно красивая, черно-зеленая (ее перья сверкали на солнце, как самоцветные камни!), посматривала насмешливо: мол, знаю я вас, людей! – и предпочитала вылавливать куски булки из воды, когда размокнут. А Олечка все кричала:
– Утя, утя!
– Тише, – шипела Александра. – Ну что ты так кричишь? Видишь, тетя спит. Разбудишь.
Оля посмотрела на задремавшую в зеленом металлическом кресле даму и сказала:
– Это не тетя, а бабушка.
Александра опасливо оглянулась. Ну да, устами младенца… Но какое счастье, что дама – француженка и не поняла, что изрекли те самые уста младенца. На такую истину любая женщина обидится. А вдруг она русская? В Париже много русских. Национальность женщин здесь угадывается очень легко. Если красивая, значит, не француженка. Если элегантная, значит, парижанка. Эта дама одета очень изысканно: коричневая норковая шубка, перчатки и шарф в тон, изящные замшевые туфли (парижанки чуть ли не всю зиму ходят в туфельках и тонких чулках, но непременно кутаются в меха), тоже коричневые, правда, сильно испачканные в белой неотвязной пыли Тюильри. Но спящая дама мало что элегантна – она еще и красива, несмотря на возраст. Лицо тонкое-тонкое, а сеть морщинок на щеках напоминает о старинном драгоценном фарфоре. Только лицо у нее слишком бледное. Ну ничего, может быть, вздремнет под солнышком – и краски оживут.