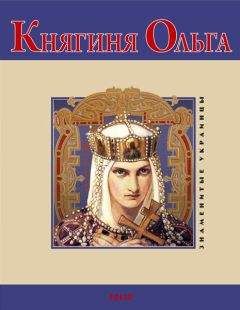Княгиня Ольга. Истоки (СИ) - Отрадова Лада
* * * * *
— Вот ты теперь где обитаешь, значит... — вздыхает Вещий Олег и с отвращением перешагивает через гору гниющих собачьих детских мест (15), что лежат прямо у калитки.
Преодолев тёмный, не знавший ухода сад, воевода останавливается на пороге покосившейся от старости хибары и стучит по двери, древесина на которой напоминает испещренную морщинами старческую кожу.
Бам!
Древняя ведьма, сгорбившись в своём гнезде, вздрагивает от страха и вытирает восково-жёлтыми пальцами покрасневшие от слёз глаза — даже если бы не желала она чувствовать забавину гибель, то всё равно бы её ощутила.
Бам! Бам!
Услышав похожие на барабанный бой звуки, женщина ворчит, кряхтит, чертыхается, но медленно выплывает из своей захламленной кухни и открывает жалобно заскрипевшую дверь.
— Ба! Сколько лет, сколько зим, а ворон всё с ним, — пучит воспалённые очи сначала на воеводу, а потом и на птицу на его плече старуха. — Поклонилась бы тебе я, княже, да спина болит — не разогнусь я даже...
— Твой подарок все двадцать два года верно служит мне. В кого же превратилась ты, Злоба... видать, такова расплата за колдовство, — ошарашенно глядит на ровесницу, что внешне годится ему едва ли не в бабки, Вещий Олег.
— Тебя тоже годы не пощадили, вон, морщины лоб покрыли, — улыбается почти беззубым ртом колдунья. — И русые кудри поседели, все мы, княже, постарели...
— Не пригласишь войти?
— Ещё чего! — присвистывает Злоба. — Мне потом от духа мужского за порогом избу до новой луны чистить. Скажи лучше, почто явился? Коли за смертоубийство посадника меня хочешь в сырой острог бросить, так должен помнить, что сам он нарушил давний уговор и позволил шавкам Козводца в полон моих людей взять.
— Уговор останется в силе, и волоса не упадёт с головы корелы (16), если... — мужчина делает паузу и угрожающе смотрит на сухонькую, сгорбленную собеседницу. — Следом за мной в столицу отправишься, чую, понадобится мне твоя помощь. Нет больше восставших, нет врагов — а так и преследуют меня сны об огненной тени, что снимает венец с нашего князя... (17)
— Поеду, так уж и быть — мне судьба моего народа дороже собственной, — безучастно отвечает старуха. — Да только не боишься ты, что найдёт меня соколёнок в Киеве? Узнает, что мы с тобой вдвоём тогда сотворили?
* * * * *
Схоронили Забаву на следующий день. Проститься с молодой женой посадника пришли лучшие люди города, и никто не мог взять в толк, отчего случилась такая скорая и несправедливая смерть. Одни лишь Ольга, Игорь, Вещий Олег, Бранимир и Ходута знали, что на княгиню покушался кто-то из остатков восставших (личность его, впрочем, так и осталась для всех, кроме неё, загадкой).
Дочь Эгиля, места себе не находившая, пару раз порывалась поговорить с Щукой, поблагодарить его за то, что не остался чёрств к тому Ярославу, да только откуда, от кого могла разнюхать она об этом? Так и смолчала варяжка, что знала о спасении соседского паренька своим единственным близким другом в этом городе, и лишь бросала в моменты редких, случайных встреч во дворе признательные взгляды и тёплые улыбки в сторону новоиспечённого рынды.
Ходута полностью ушёл в дела Новгорода, работая денно и нощно, не зная никакой усталости: только это и спасало его от разрывающей сердце тоски по любимой, иначе умер бы он от печали и отправился вслед за Забавушкой.
А ещё пару дней спустя князь в сопровождении супруги и верной дружины отправился в Киев, к окраинам которого они прибыли уже через две недели...
* * * * *
Я — Ольга.
Та, что стала для родителей долгожданным первенцем, для отца — попутным свежим ветром в парусе, для матушки — тёплыми лучиками весеннего солнца, для младшего братишки — звенящей колокольцами колыбельной песнью. Хрупким белоснежным цветком седмичника посреди безбрежных псковских лесов, мягким шелестом листвы, рассказывающей древние предания в тенистом саду...
Я любила и была любимой — да только запутали, перемешали нити судьбы моей судженицы так, что никому вовек не размотать этого клубка.
Когда настаёт черёд крошечному семечку проклюнуться в поле? Нежным ростком, несмотря на все преграды, вырваться наружу из черноты сырой землицы к свету? Кто шепчет бутону, что пора ему распуститься и зацвести? Когда теряет девица по-детски очаровательную невинность? С заплетёнными вокруг головы косами? На ложе молодых, в крепких объятиях суженого? Или же когда небеса разом падают со всей тяжестью на её тонкие плечи?
Я — Ольга.
В пятнадцать лет ставшая супругой для великого князя, орудием для его воспитателя, надеждой — для всего народа.
В Новгороде, что казался мне сверкающим стольным градом, я увидела многое. Густой мрак, что прячется в обманчивом блеске драгоценных камней и приветливых улыбок; застарелые шрамы и невыносимую боль, таящиеся в прекрасных ликах и складках шёлкового синего платка; страхи и сомнения, хмурой дымкой окутавшие безбрежное и беспокойное, словно море, сердце хозяина престола...
Я — Ольга!
Потерявшая себя прежнюю, отринувшая жестоких богов, оставшаяся совсем одна среди холода и мглы — но прошедшая сквозь смерти и отчаяние навстречу новой заре. Придёт утро и снимет все печали и тревоги, взойдёт солнце и приласкает объятиями тёплых лучей.
Там, позади, в размытых воспоминаниях остались они: маленький Олав, обнимающий отца на палубе торгового корабля; девица, что тает в руках возлюбленного с цветком в своей причёске; княжеская невеста, которая мчит по мрачной чаще домой, надеясь вернуться... Да только не воротить минувшего, не повернуть времени вспять. Все они отныне лишь далёкие образы, призраки прошлого, напоминающие о себе щемящей болью в груди долгими одинокими ночами.
Я же ступаю вперёд, в будущее. Прощай, милое дитя! Прощай, наивная девица!
Как распускается из тугого и невзрачного зелёного бутона прекрасный цветок, как появляется из крохотного терема своего кокона бабочка, так рождаюсь и новая я.
Я — Ольга, княгиня Киевская.
Встречают меня широкие берега Славутича (18), изумрудные холмы Хоревицы да Щековицы (19), резные стольные палаты и выбежавшие из домов своих любопытные кияне (20).
В жилах моих течёт обжигающее пламя, в глазах — студёные серые воды Великой, в руках — выкованный из острого ума и твёрдой воли меч. Никакие заговоры, никакие ловушки и тёмные помыслы мне не страшны!
Слышишь топот конских копыт, Киев? Слышите, как содрогается земля, как трепещут дубовые своды палат и теремов?
Это я приближаюсь. Иду, дабы изменить судьбу наперекор всему, написать новое будущее и явить своё имя миру.
И по велению сердца... и по букве сурового закона!
* * * * *
1) Змея кусает себя за хвост, я слышу это.
Не так-то легко будет моей боли умереть молодой.
(Jelena Karleuša, "Rehabilitacija") — перевод с сербского;
2) Липень (lipьnь) — июль;
3) До принятия христианства более распространённым обрядом погребения у восточных славян было сожжение на костре;
4) Крада — погребальный костёр, сложенный особым образом;
5) Хирд — название дружины у скандинавских народов;
6) На церемониях похорон знатных и наиболее отличившихся в битве викингов погребальные костры сооружались на драккарах (т.н. погребальная ладья);
7) См. главу XVI: Сон и Морок, Часть I;
8) Рында — оруженосец-телохранитель;
9) Писалом на Руси называли стилос — стержень из металла, кости или дерева, который использовали для письма, обычно на бересте или покрытых воском дощечках (церах);
10) Мидгардсорм (Йормунганд — морской змей из скандинавской мифологии, третий сын Локи и великанши Ангрбоды. Является аналогом греческого уробороса;
11) Бродекс (bredøkse, broad axe, буквально — «широкий топор») — массивный скандинавский топор с краями-полумесяцами, шириной лезвия до 45 см;
12) Завоеводчик — в старину в русских войсках следующий за воеводой чин, обычно был прикреплён к определённой территории;
13) См. главу XIX: Мука;