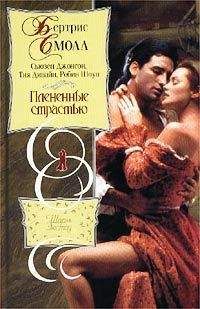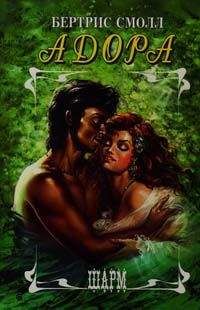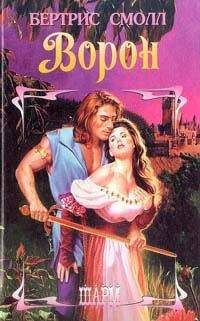Бертрис Смолл - Разбитые сердца
Эти факты, рассматривавшиеся на открытом судебном заседании, попали в труды историков, а менестрели, сочтя их неинтересными, не упоминали о них в песнях и рассказах. Их больше занимало исчезновение Ричарда, и почти неизменно все они пели о кораблекрушении. Это понятно, потому что Ричард отплыл из Акры с явным намерением добраться морем до Англии. Хьюберт Уолтер, а также все те, кто пришел попрощаться с ним в тот печальный вечер (они же отрицали факт преднамеренной «секретности» поспешного отплытия), считали, что он направлялся в один из своих пяти портов. Потом король исчез, и снова о нем услышали, когда он уже находился в центре Европы. Почему? Ответ был прост: он стал жертвой кораблекрушения. Длительное время — во всяком случае, пока я не сделал это сам — никто, кроме капитана «Святого Иосифа» и его команды, не мог опровергнуть эту версию, и к тому времени передававшиеся из уст в уста песни повсеместно распространили ее. «Увы, у скалистых берегов Истрии разразился страшный шторм…» — пели менестрели и миннезингеры.
В действительности же мы в золотом октябре, при тихой погоде, доплыли до Силиции, где купили лошадей и провизию и без промедления поехали дальше.
Это был любопытный и во многом приятный эпизод. Путешествие всегда словно прерывало мои мысли и чувства. Я шел, плыл, ехал как существо, оторванное от своих корней, человек без прошлого и будущего, живя — так, на мой взгляд, живут лишь истинно счастливые люди — настоящим моментом. Я понял это, когда ездил верхом со Стивеном, а потом при переходах по Святой земле. Мысли одолевают меня только во время остановок и привалов, и если они становятся слишком невыносимыми, у меня немедленно возникает стремление двигаться дальше. Поэтому — и не только поэтому — наше путешествие оказалось превосходным.
Местность была дикой и пустынной, но очень красивой, и те немногочисленные люди, у которых мы покупали еду и лошадей, не проявляли ни малейшего недружелюбия. Вражда отошла в прошлое, а торговля между западом и Святой землей на протяжении жизни двух поколений была достаточно оживленной, и местные жители понимали, что мертвый паломник или крестоносец не только не приносят дохода, но и отпугивают других путешественников, а также порой вызывают резкие ответные действия. Лучше улыбаться, чем враждовать, и продавать нужные людям товары по высокой цене.
Сколько живу, не могу понять, почему я ощущаю острую необходимость говорить только правду. Это плохо и не служит никакой цели. Я мог бы просто сказать: «Мы проехали от Силиции до Эедбурга в Австрии». Мог бы описать хорошую солнечную погоду, рассказать, как мы останавливались на ночь, как хромали лошади, как мы ужинали, а потом заворачивались в плащи и засыпали, как просыпались, продрогшие и голодные как волки, и так далее. Мог бы описывать замки на холмах, нависающие над дорогой и кое-где разрушенные — заброшенные реликвии былых крестовых походов, — и без конца говорить обо всем этом и о многом другом.
Но мой рассказ правдив и содержит сведения обо всем, что в то время попадалось мне на глаза. Если бы ранее я о чем-то умалчивал, то эта последняя часть, написанная для собственного удовольствия, выглядела бы огромной заплатой на куртке. А поскольку в ней объясняется очень многое, правда здесь необходима и целесообразна.
Итак, на вторую ночь после выезда из Силиции я точно понял, что пытался сказать мне Рэйф Клермонский на смертном одре и почему Ричард Плантагенет не любил свою жену и не нуждался в ней. Клянусь, что раньше я ничего не знал.
Когда Анна Апиетская попросила меня описать историю Третьего крестового похода, я понимал, что, по всей логике, то, что мне станет известно в конце, не сможет повлиять на начало. И я тщательно записывал все события, происходившие на моих глазах, по наивности, именно тогда, когда они происходили. Теперь я оглядываюсь назад, тщательно проверяя написанное, и надеюсь, что был справедлив. Разумеется, сейчас мне представляется невероятным, что я был таким слепым и тупым, особенно в отношении Рэйфа Клермонского. Но я искренне думал, что Ричард благоволил к нему из жалости, помня о его долгом пребывании в плену, и потому, что он был хорошим рыцарем. Когда серую лошадь передали Рэйфу, я не увидел в этом ничего более значительного, чем в том, что первоначально она была подарена мне. Я пытался, делая свои записи, вернуться в состояние слепого неведения, я пытался быть честным. Но достаточно ли быть честным в пересказе? Как насчет честности в мыслях? Теперь, в эти тихие часы, когда потрясение и отвращение, возникшие в тот момент, кажутся такими далекими, как и ярость, с которой я сразил сарацинского всадника, я спрашиваю себя: следует ли порицать его за склонность к мужчинам, а не к женщинам? Разумеется, ни один мужчина не выбрал бы себе такую участь сознательно, как не пожелал бы стать уродом, трусом или больным…
Осуждать очень легко: это на самом деле и мудрее, и безопаснее. Иммунитет человека к аморальности лучше всего утверждается путем громких протестов, возбуждаемых ужасом и отвращением, а не умозрительными заключениями или попытками понять.
Меня больше всего озадачивает неизбежное чувство стыда, возникающее при одной мысли об этом. Мы говорим, что это — противоестественно. Но противоестественного кругом очень много — отцеубийство, убийство матери, детоубийство — однако при упоминании о них ни у кого щеки не заливаются краской. Это предполагает бесплодие, бросает вызов божественному порядку с его призывом «плодитесь и размножайтесь», но, с другой стороны, соответствует монашеским обетам, считающимися благонравными. Это не запрещается десятью заповедями и не входит в перечень семи смертных грехов, и все же у всех, кроме особых приверженцев, вызывает ощущение насилия над неким глубинным инстинктом и отвращение, смягчить которые не в состоянии ни жалость, ни любопытство. Не чужд стыд и им самим. Трудности сближения, постоянная опасность отказа, риск подвергнуться насмешке непременно сопряжены со стыдом.
Девушка может отказать мужчине, а он посмеется и скажет: «Я ей не нужен», не утратив ни самоуважения, ни уважения окружающих. Путь к постели девушки обычно хорошо обставлен привычными знаками, нежными или вызывающими взглядами, сладкими словами или ласковыми жестами, и ни один мужчина, если он не круглый идиот, не может усомниться в их значении. Но этот, незаконный, путь — неизбежно путь во мраке, и он приводит к сценам, подобным той, которую мне довелось пережить, — настолько эксцентричную, что даже воспоминание о перспективе принять в ней участие приводит меня в ужас.
Когда мне все стало ясно, я по совершенно необъяснимой причине почувствовал себя виноватым. В памяти всплывали все случаи, когда он бывал ласков со мной, выказывал расположение или снисхождение. Я всегда чувствовал себя в неоплатном долгу перед ним, и это, в свою очередь, меня злило. «Ведь я не обязан ему ничем, — гневно говорил я себе. — А если он столько времени ошибался во мне, так это его дело, моей вины здесь нет!» Но от этого ощущения было не так-то легко отделаться. Меня мучило сознание того, что я стал причиной его неудачи, и последние слова Рэйфа не давали мне покоя. А потом мое сознание повернулось самым неожиданным образом, и я стал перебирать в уме его многочисленные достоинства — безудержную храбрость, справедливость, внимание к мелочам, живой ум, стойкость к превратностям судьбы и даже тот факт, что он, когда хотел, становился несравненным менестрелем. Я всегда относился к нему ровно, никогда не впадал в состояние поклонения герою, чем страдали самые разные люди. В великие дни его побед и громких подвигов я ликовал вместе со всеми, но какая-то часть моего сознания не разделяла всеобщих восторгов. А в дни поражения, да еще когда обнажилась его роковая слабость, на него обратилось мое проклятое искусство миннезингера; теперь я видел в нем великого человека, героя — отвергнутого маленьким, сопливым, стыдливым лютнистом.