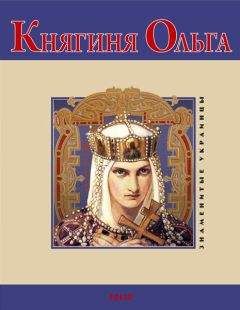Княгиня Ольга. Истоки (СИ) - Отрадова Лада
Как и обещал восставшему люду князь Игорь, заключенный между новгородцами и его отцом договор отныне скреплялся не только словами, но нашёл и более осязаемое воплощение. Отныне все взаимные обязательства правителя и горожан были высечены буквами в дереве, так, чтобы каждый владеющий грамотой мог ознакомиться с ними — и поразмыслить, все ли соблюдают законы своих пращуров.
Пусть холодное и зловонное дыхание смерти всё ещё ощущалось в каждом порыве ветра, город постепенно стал возвращаться к привычному укладу вещей и повседневным делам. Торг вновь наполнился купцами с заморскими товарами, ремесленники распахнули двери пустовавших лавочек, кабатчики — питейных заведений, а плотники и каменщики взялись за восстановление израненного города и принялись латать в его стенах дыры. Хоть работы и было непочатый край, неравнодушных сердец и умелых рук в Новгороде тоже хватало!
Маленький Гостомысл наконец-то вернулся к матушке, и убитая скорбью по супругу Богуслава нашла утешение в воспитании сынишки, как две капли воды похожего на градоначальника. Женщина ни на минуту не расставалась с отроком и берегла его как зеницу своего ока, больше не доверяя ни нянькам, ни стражникам. Времени у них впереди — целая жизнь, ведь теперь она всецело посвятит себя сыну и отойдёт от призрения нуждающихся, которым занималась при прежнем посаднике.
Сиротой Новгород не остался. Вставший на ноги буквально за какую-то пару дней Ходута будто заново родился, и вместо ветра в кудрявой голове поселились более взвешенные и взрослые думы. Вместе с Некрасом он навещал посадское войско в отстроенном заново детинце, с княгиней и Бранимиром интересовался делами оставшихся без кормильцев семей, с Вещим Олегом подробно изучал отцовы записи и азы управления городом — одним словом, готовился унаследовать титул градоначальника от мечтавшего сделать так много, но погибшего раньше времени родителя.
Ольга с Игорем и обоими воеводами перебрались из особняка Гостомысла — Богуславе с сыном нужны были покой и уединение, а не постоянные государственные дела — в опустевшее жилище Ланы и Ковзодца. Порой дочери Эгиля мерещился в ночи её синий платок, временами она словно ловила на себе печальный взгляд таких же лазурных глаз, но мысленно успокаивала себя и возвращалась ко сну.
Где бы ни находилась сейчас вдова главы торгового братства, в причинившем женщине столько боли городе её точно не было.
И пока одни семьи носили траур по погибшим и оплакивали их, другие, несмотря на все злоключения, умудрялись воссоединиться и расцвести заново буйным цветом. Позавчерашней ночью отгремели сразу две свадьбы — Ходуты с Забавой да Милицы с Ари; последнему и вовсе повезло вдвойне, ведь нашёл он в северном городе не только старую любовь, но и кое-кого не менее родного — того, что и не надеялся когда-либо уже встретить.
В тот день явился к нему Бранимир, совсем на себя не похожий — всполошенный да неуверенный — и спросил о том, откуда у дружинника подвеска в виде руны "ᛚ", столь похожая на ту, что когда оставил он своей возлюбленной перед тем, как отправиться служить князю Рюрику (7).
Рассказал лысый дружинник старому воеводе и о матери, погибшей во время родов, и о паре из соседней деревне, что взяла его на воспитание взамен недавно скончавшемуся сыну, и о единственном напоминании о родительнице в виде драгоценного украшения.
— Как звали? Как звали мать твою с готландских берегов?
— Сив её имя, — отвечает, ничего не понимая, Ари.
Старый вояка тут же бросается обнимать его, прижимать к широкой груди, покрывать слезами и поцелуями. Бородач, поражённый поведением воеводы, ошеломлённо хлопает веками, глядит на него, пока с влажными глазами и дрожащими губами тот не продолжает:
— Я твой отец.
* * * * *
Ломоть хлеба с горстью перезрелых вишен в тарелке из необожённой глины с глухим звуком оказывается на холодном полу темницы, но сидящий в заключении не обращает на еду никакого внимания, вместо этого поднимая заплывшие синяками воспалённые очи к своему гостю.
— Неужто... воевода расщедрился сегодня? — шевелить сухими, разбитыми губами по-прежнему неприятно, но Всеволод уже успел за столько лет привыкнуть к боли как к чему-то совершенно обыденному, сродни воздуху или солнечному свету вокруг.
— Это от меня, — с горечью глядит на исхудавшего воспитателя, на котором не осталось ни единого живого места, Щука. — Сложно сюда было попасть, а ещё сложнее — выпросить стражу оставить нас наедине для очередных пыток. Поэтому... и мне придётся добавить тебе пару шишек да ушибов, дабы не вызвать подозрений.
— Дерзай же, чего ты ждёшь, — ухмыляется ростовский князь и подставляет для череды ударов превратившееся в сплошной синяк лицо. — Как твои успехи, сынок? Не подозревает ли чего старый волк?
— Нет, его доверие несомненно. Может, и были у него какие-то соображения раньше, но после того, как я сообщил Олегу о побеге молодой княгини, все они испарились.
— Любопытно... а супруга Игоря здесь причём?
— Мы... сблизились, — мотает головой, подрывая сальные догадки острожника, рыжеволосый конюх. — Как товарищи, она хорошая, ладная девица, и со своим умом в голове... И помочь я хотел я искренне, да только всё равно бы её отыскали и вернули обратно — а так она хоть сыграла свою роль и возвысила меня перед воеводой.
Юноша краснеет и стыдливо опускает глаза в неровный земляной пол темницы: похоже, что действительно его совесть зазрила.
— Ежели и впрямь ты не только к княжьему воспитателю, но и к супруге его приближен... Сподручно это, да только следует тебе ещё ближе стать к воеводе, превратиться в тень его, рубашку на его теле — так, чтобы никаких подозрений у него больше не возникло. Моя участь уже предрешена, и окажусь я в могиле днём раньше или днём позже, неважно. Главное, чтобы дело моё продолжило жить в тебе. А теперь послушай старика и не смей спорить...
Вечером Щука возвратился в поруб к своему воспитателю, но на сей раз не один — с ним явился Вещий Олег. Воевода, с презрением посмотрев на сидельца, что не выражал ему никакого почтения и делал вид, что вовсе не замечает, подходит к нему вплотную и шепчет прямо на опухшее, синее ухо.
— Тебе выбирать, сдохнешь ты здесь медленно и мучительно от голода или же найдёшь вечный покой быстро и почти безболезненно, ежели поведаешь, кто твои споборники да единомышленники.
— Я приму любую... смерть, — скалит зубы мужчина и медленно поднимает из-за головы руки в кандалах, соединённые чуть более длинной, нежели обычно, цепью. — Но сначала за свои грехи ответишь ты и отправишься к Рюрику!
Мгновение — и Всеволод пинает воеводу в живот, следом набрасывая ему на шею цепь с крупными звеньями и изо всех сил туго сжимая её на кадыке ненавистного врага так, чтобы она посинела... так, чтобы как бы не кашлял и не противился, не сумел бы вырваться из этой мёртвой хватки!
Воевода принимается сдавленно сипеть, лёгкие его сводят судороги, он отчаянно дёргается — но воздуха не хватает и перед глазами всё начинает плыть и сливаться в какую-то бесформенную, огромную кляксу.
Ошеломлённый Щука дышит так тяжело, словно это на его шее сейчас удавка, а не у воеводы; бросает испуганный взгляд сначала на Вещего Олега, а затем на Всеволода. Последний, уже теряя силы продолжать, кивает ему и почти незаметно улыбается, в глубине его усталых глаз впервые за долгие годы разливается какое-то янтарно-медовое тепло...
И разом гаснет, исчезая в вечной темноте, когда острое лезвие ножа в руке рыжего конюха входит ему в горло. Кровь струёй брызжет на лицо и одежды Вещего Олега, хватка цепей на его вые слабеет — и воевода, собрав остатки сил, отталкивает от себя князя-предателя. Он неуклюже падает куда-то в угол темницы, захлёбываясь и дрожа как едва тлеющий огонёк костра среди сырых дров, прежде чем навсегда затихнуть.
— Щука! Больше ты не конюх и не сокольничий мне, — жадно ловя губами воздух, обращается хриплым голосом к конопатому отроку, плечи которого ходуном ходят, воевода. — Отныне становишься ты... моим рындой (8)!