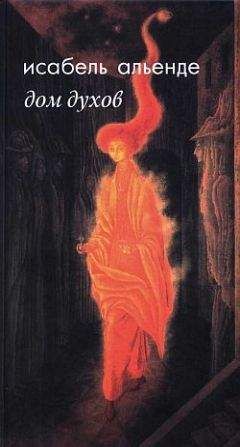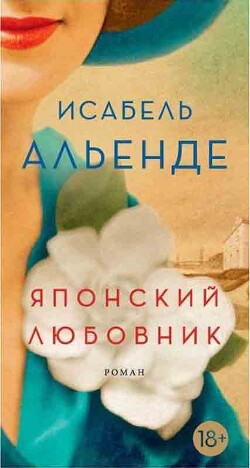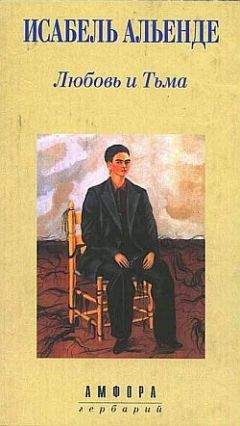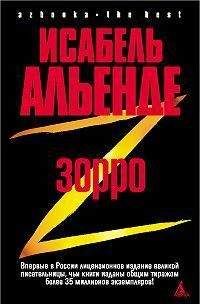У кромки моря узкий лепесток - Альенде Исабель
Посреди этого ада, где зачастую не было даже самого необходимого для армии продовольствия, иногда появлялась машина «скорой помощи», заодно привозившая на фронт полевую почту. Вел грузовик Айтор Ибарра, взявшийся развозить письма ради поддержания боевого духа бойцов. Впрочем, письма получали совсем немногие: интербригадовцам почта не доходила, слишком уж далеко от дома они были, а многим испанцам некому было писать, особенно выходцам с юга страны, ведь их семьи вовсе не знали грамоты. Зато Гильему Далмау было от кого получать письма. Айтор часто шутил, что рискует своей шкурой, доставляя письмо единственному адресату. Иногда он привозил целую пачку писем, перевязанных бечевкой. В ней всегда было одно письмо от матери и одно от брата, но большинство — от Росер, которая ежедневно писала Гильему по несколько строк, пока не набиралось на пару страниц, тогда она укладывала странички в конверт и несла его на пункт приема писем для фронта, напевая популярную среди ополченцев песенку:
Если хочешь написать мне, знаешь, где меня найти,
Третий фронт моя бригада, мы на линии огня.
Она и не знала, что словами из этой песенки или из какой-то другой, похожей Ибарра приветствовал Гильема, передавая ему письма. Баск распевал их даже во сне, чтобы отпугнуть страх и привлечь добрую фею удачи.
Армия Франко неумолимо продвигалась вперед, завоевав уже большую часть страны, и было очевидно, что Каталония скоро падет. Городом овладела паника, люди готовились к бегству, многие уже уехали. В середине января 1939 года Айтор Ибарра привез в госпиталь Манресы на своем видавшем виды грузовике девятнадцать тяжелораненых. Когда выезжали, их было двадцать один, но двое умерли по дороге, и их тела оставили на обочине. В госпитале к этому времени продолжала работать лишь часть врачей из числа гражданских докторов, другие покинули свой пост, те же, что остались, пытались не допустить паники среди пациентов. Усугубило ситуацию и то, что многие члены республиканского правительства выбрали для себя изгнание, предполагая руководить страной из Парижа, и это окончательно подорвало моральный дух гражданского населения. В те дни националисты находились менее чем в двадцати километрах от Барселоны.
Ибарра не спал пятьдесят часов. Он передал Виктору Далмау, вышедшему навстречу, свой скорбный груз, после чего буквально упал ему на руки. Виктор устроил Айтора в настоящей спальне, как он называл угол палатки, где имелись походная кровать, керосиновая лампа и ночной горшок. Он решил оставаться ночевать в госпитале, чтобы сэкономить время. Несколькими часами позже, когда в его сумасшедшей работе случился перерыв, Виктор принес другу миску чечевичного супа, засохший кусок копченой колбасы, присланной ему матерью на этой неделе, и кружку ячменного кофе. Он с трудом разбудил Айтора. Стряхнув с себя сон, баск с жадностью съел все, что ему принесли, и стал подробно рассказывать о боях при Эбро, о чем Виктор уже знал в общих чертах от раненых, поступавших в последние месяцы. Армия республиканцев понесла огромные потери, и, по словам Ибарры, в скором времени оставалось ожидать окончательного разгрома.
— За сто тринадцать дней боев погибло больше десяти тысяч наших, а сколько еще тысяч попало в плен и каковы потери среди мирных жителей, погибших от бомб, я даже не знаю… И неизвестно, каковы потери врага, — закончил баск.
Как и предвидел профессор Марсель Льюис Далмау перед своей кончиной, война была проиграна. Между противниками не предполагалось никакого мирного договора, на который надеялись республиканцы, поскольку Франко требовал от них безоговорочного признания их поражения и сдачи без всяких условий.
— Не верь франкистской пропаганде, не будет ни милосердия, ни справедливости, а наступит такая же кровавая баня по всей стране. Нас поимели.
Для Виктора, хорошо знавшего Ибарру и привыкшего к тому, что тот любые испытания встречал с улыбкой, а песни и шутки у него никогда не заканчивались, мрачное выражение лица Айтора было куда красноречивее слов. Баск вынул из рюкзака маленькую флягу, плеснул из нее немного алкоголя в кружку с водянистым кофе и протянул Виктору.
— Возьми, тебе понадобится, — сказал он.
Какое-то время он размышлял, как бы поделикатнее сообщить Виктору печальную новость о его брате, но в результате без всяких околичностей сообщил, что Гильем погиб 8 ноября.
— Как? — только и мог произнести Виктор.
— Бомба попала в траншею. Виктор, ты прости, но давай я опущу подробности.
— Скажи мне как, — повторил Виктор.
— Всех разорвало на куски. Не было времени, чтобы собрать тела. Похоронили останки.
— Значит, идентификацию не делали.
— Не было у нас возможности для точного опознания, Виктор, но Гильема видели в той траншее незадолго до взрыва.
— Но это не точно, так ведь?
— Боюсь, что точно, — ответил Айтор и достал из рюкзака обгоревший бумажник.
Виктор осторожно раскрыл бумажник, который, казалось, вот-вот развалится у него в руках, и вынул оттуда военный билет Гильема и чудом уцелевшую фотографию девушки, стоявшей у рояля. У Виктора подкосились ноги, он тихо опустился на походную кровать рядом с другом и несколько минут молчал. Айтор не решался обнять его, как ему того хотелось, он ждал не шевелясь и тоже не произносил ни слова.
— Это его невеста, Росер Бругера. Они собирались пожениться после войны, — наконец проговорил Виктор.
— Соболезную, Виктор, тебе придется ей сказать.
— Она беременна — шесть или семь месяцев, кажется. Я не могу… Пока сам не буду уверен, что Гильем погиб.
— О какой уверенности ты говоришь, Виктор? Никто не выбрался живым из этой ловушки.
— Возможно, его там не было.
— В этом случае ты не держал бы сейчас в руках его бумажник. Если бы Гильем остался в живых, мы бы об этом узнали. Прошло два месяца. Тебе не кажется, что бумажник — это убедительное доказательство?
В конце недели Виктор Далмау добрался до дома, к ожидавшей его матери. Она приготовила для сына черный рис, выменяв полчашки у контрабандистов в порту, там же она раздобыла несколько зубчиков чеснока и небольшого кальмара, — это стоило ей наручных часов мужа. Улов предназначался солдатам, а то немногое, что перепадало гражданскому населению, естественно, уходило в больницы и в детские дома, хотя все прекрасно знали, что на столе у политиков, в гостиницах и в богатых ресторанах недостатка в еде не наблюдалось. Увидев мать, маленькую, сухонькую и постаревшую от бесконечных забот и тревог, и беременную Росер, глаза которой сияли будущим материнством, Виктор так и не решился сказать о смерти Гильема, ведь обе женщины еще носили траур по Марселю Льюису. Позже он много раз собирался сделать это, но слова застревали в горле, и в конце концов он решил подождать до тех пор, пока не родится ребенок или кончится война. Новорожденное дитя, возможно, смягчит боль Карме от потери сына и боль Росер от потери любимого, думал он.
III
1939
Века проходят день за днем,
изгнанье тянется часами…
Пабло Неруда, «Вспаханная земля», из книги «Всеобщая песнь»
В тот день в конце января, когда в Барселоне начался исход, который потом назовут Отступлением, на рассвете так сильно похолодало, что вода в трубах застыла, грузовики и животные примерзали к земле, а небо, затянутое черными тучами, погрузилось в глубокий траур. Это была одна из самых суровых зим на памяти жителей. Армия Франко спускалась в город по склону Тибидабо, и население Барселоны охватила паника. В последние часы перед Отступлением военнопленных — солдат армии националистов — сотнями вытаскивали из тюрем на улицу и тут же казнили. Солдаты Республики, среди которых было много раненых, потянулись к границе с Францией вместе тысячами гражданских; город покидали целыми семьями — старики, дети, матери с грудными младенцами, — и каждый нес все, что только мог унести; одни ехали на автобусах и на грузовиках, другие на велосипедах и телегах, запряженных лошадьми или мулами, но большинство шли пешком, таща на себе мешки с имуществом, — печальная процессия несчастных людей. Позади оставались запертые дома и любимые вещи. Те обереги, что беглецы брали с собой, какую-то часть пути еще сохранялись у своих хозяев, но потом терялись в водовороте Отступления, становясь частью прошлого.