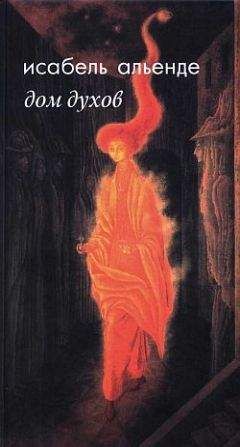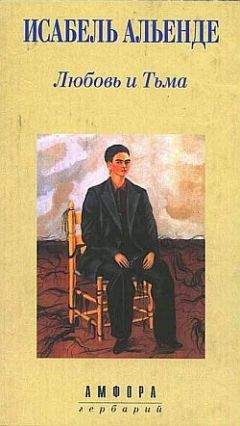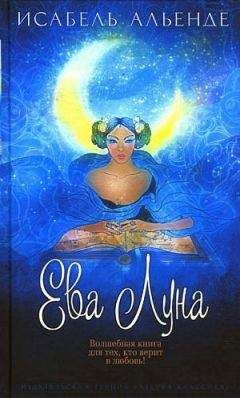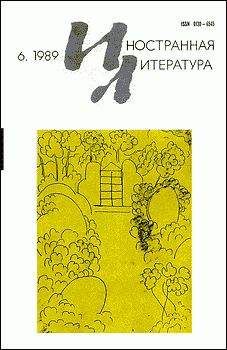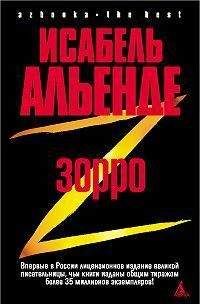Японский любовник - Альенде Исабель
Школа, которая так несчастливо началась для Натаниэля, была для него пыткой и в последующие годы. Товарищи больше не охотились на него, чтобы отлупить, но подвергли четырем годам насмешек и изоляции: ему не прощали интеллектуального любопытства, хороших оценок и физической неуклюжести: он так и не избавился от ощущения, что родился не в том месте и не в то время. Ему приходилось участвовать в спортивных состязаниях, ведь это ключевой камень английского образования, и парень раз за разом страдал от унижения, когда прибегал к финишу последним или когда никто не хотел его брать в свою команду. В пятнадцать лет Натаниэль начал стремительно расти, родителям приходилось покупать ему новые туфли и удлинять брюки каждые два месяца. Недавно он был самым маленьким в классе и вот уже оказался в середине; росли ноги, росли руки, рос нос, под рубашкой проступали ребра, а кадык на тощей шее выглядел как опухоль, так что он до самого лета ходил с шарфом. Юноша ненавидел свой профиль ощипанного стервятника и старался занимать место в углу, чтобы на него смотрели анфас. Он уберегся от угрей на лице, одолевавших его врагов, но не от комплексов, свойственных этому возрасту. Натаниэль не мог поверить, что меньше чем через три года тело его обретет нормальные пропорции, черты лица придут в порядок и он станет настоящим красавцем из романтического фильма. Он чувствовал себя уродливым, несчастным и одиноким, в голове крутились мысли о самоубийстве, как признался он Альме в один из моментов крайнего недовольства собой. «Это было бы расточительно, Нат. Лучше закончи школу, выучись на врача и отправляйся в Индию лечить прокаженных. А я поеду с тобой», — ответила Альма не слишком сочувственно, потому что по сравнению с положением ее семьи экзистенциальные проблемы двоюродного брата выглядели смехотворно.
Разница в возрасте между ними почти не чувствовалась, поскольку Альма развивалась быстро, а любовь к одиночеству делала ее еще взрослее. Мучения Натаниэля в круге его отрочества казались вечными, а Альма в это время прибавляла в серьезности, а также в стойкости, привитой ей отцом и лелеемой как ценнейшая из добродетелей. Она чувствовала себя покинутой двоюродным братом и жизнью. Она хорошо понимала, как растет в Натаниэле отвращение к самому себе, потому что такое отвращение затронуло и ее, но, в отличие от брата, Альма не позволяла себе растравлять боль, вглядываясь в зеркало в поисках недостатков или жалуясь на судьбу. Ее одолевали другие заботы.
В Европе война разразилась как апокалипсический ураган, а она наблюдала эти события только в размытых черно-белых новостях в кино: сцены, выхваченные из сражений; солдатские лица, покрытые несмываемым нагаром пороха и смерти; самолеты, поливающие землю бомбами, полет которых был зловеще-грациозен; дымные всполохи взрывов; ревущие толпы в Германии, прославляющие Гитлера. Девочка уже плохо помнила свою страну, дом, где она выросла, и язык своего детства, но семья всегда продолжала жить в ее тоске. Альма держала на ночном столике портрет брата и последнюю фотографию родителей на пристани в Данциге, и она целовала их на ночь. Образы войны преследовали ее днем, приходили во сне, и она не имела права вести себя как малышка, каковой на самом деле и была. Когда Натаниэль поддался самообману, считая себя непризнанным гением, Ичимеи сделался ее единственным наперсником. Мальчик не сильно подрос, и теперь Альма была выше его на полголовы, но в Ичимеи была мудрость, и он всегда находил, чем отвлечь подругу, когда ее осаждали кошмарные видения войны. Ичимеи каждый раз выдумывал способ, чтобы добраться до Си-Клифф: на трамвае, на велосипеде или на садовом грузовичке, если отец или братья соглашались взять его с собой; обратно Лиллиан отправляла его со своим шофером. Если два-три дня проходили без встречи, дети ночью прокрадывались к телефону и разговаривали шепотом. Даже самые банальные реплики в этих потайных беседах приобретали многозначительную глубину. Детям не приходило в голову попросить разрешения позвонить: они полагали, что телефон от использования изнашивается и, следовательно, для маленьких не предназначен.
Беласко внимательно следили за новостями из Европы, которые становились все более непонятными и тревожными. В оккупированной немцами Варшаве четыреста тысяч евреев стеснили в гетто площадью в три с половиной квадратных километра. Самуэль Мендель прислал из Лондона телеграмму, из которой Беласко узнали, что родители Альмы попали в гетто. Деньги Менделям не помогли; в первые же дни оккупации Польши они лишились и собственности, и доступа к швейцарским счетам, им пришлось покинуть семейный особняк, конфискованный и превращенный в администрацию для нацистов и их приспешников, а прежним владельцам досталась та же неописуемая нищета, что и прочим обитателям гетто. И тогда Мендели поняли, что у них нет ни единого друга среди собственного народа. И это было все, что удалось выяснить Исааку Беласко. Связаться с Менделями не было никакой возможности, и все попытки их вызволить не принесли результатов. Исаак воспользовался своими связями с влиятельными политиками, включая двух сенаторов из Вашингтона и военного министра, вместе с которым учился в Гарварде, но ему ответили неясными обещаниями, которые не были исполнены, потому что этих людей волновали куда более важные дела, чем спасательная экспедиция в варшавский ад. Американцы наблюдали за событиями скорее выжидательно: они все еще надеялись, что эта война по другую сторону Атлантики их не затронет, хотя правительство Рузвельта вело хитроумную пропаганду среди населения, настраивая людей против немцев. За высокой стеной варшавского гетто евреи жили на последнем пределе голода и страха. Ходили слухи о массовой депортации, о мужчинах, женщинах и детях, которых загоняют в грузовые поезда, исчезающие в ночи, о том, что нацисты хотят истребить всех евреев и другие нежелательные элементы, о газовых камерах, печах крематория и о других ужасах, которые невозможно было подтвердить, так что американцам в них не верилось.
ИРИНА БАСИЛИ
В 2013 году Ирина Басили в одиночку отметила трехлетний юбилей своей работы с Альмой Беласко — тремя пирожными с кремом и двумя чашками горячего какао. К этому времени она уже хорошо узнала Альму, хотя в жизни этой женщины были тайны, в которые не проникли ни она, ни Сет — отчасти потому, что не задавались всерьез такой задачей. Ирина работала с бумагами хозяйки, и ей постепенно открывались члены семейства Беласко. Так она познакомилась с Исааком, с его суровым орлиным носом и добродушными глазами; с Лиллиан — невысокой, пышногрудой и миловидной; с ее дочерьми Сарой и Мартой — некрасивыми и очень элегантно одетыми; с Натаниэлем в ранние годы — тощим юнцом неприкаянного вида; с Натаниэлем другой эпохи — стройным красавцем; и в конце концов — с ним же, изрезанным зубилом жестокой болезни. Ирина увидела Альму, только что приехавшую в Америку; увидела двадцатиоднолетнюю девушку в Бостоне, где та изучала искусства, в черном берете и шпионском плаще — этот мужской стиль Альма взяла на вооружение, избавившись от барахла Лиллиан, которое ей никогда не нравилось; увидела Альму — мать, сидящую в садовой беседке Си-Клифф с трехмесячным Ларри на руках, муж стоит за спиной; Натаниэль положил ей руку на плечо, как на портретах коронованных особ. В Альме с детства угадывалась та женщина, которой она станет потом: статная, с белой прядью, губы чуть искривлены, взгляд неласковый. Ирине нужно было разместить фотографии в альбомах в хронологическом порядке, по указаниям Альмы, которая не всегда помнила, где и когда они были сделаны. Кроме снимка Ичимеи Фукуды, в ее квартире была всего одна фотография в рамке: семья в гостиной особняка Си-Клифф на пятидесятилетием юбилее Альмы. Мужчины в смокингах, дамы в вечерних нарядах, Альма — в простом черном платье, величавая, точно вдовствующая императрица, а ее невестка Дорис — бледная и усталая, в сером шелковом платье со складками спереди, чтобы скрыть вторую беременность: она ждет дочь, Полин. Сету полтора года, он стоит, одной рукой держась за бабушкин подол, другой — за ухо кокер-спаниеля.