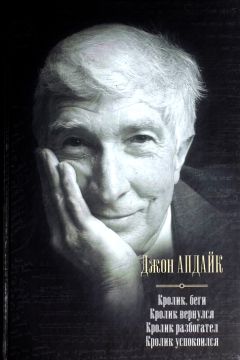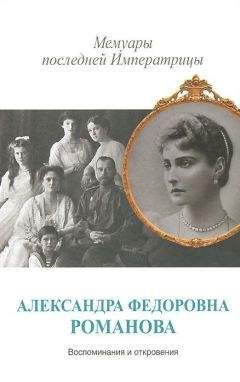Анна Соколова - Царское гадание
Лицо старой цыганки моментально исказилось гневом. Ее узнать стало трудно.
— Заремба! — крикнула она.
В дверях показалась старая цыганка.
— Кто тебе позволил впускать кого бы то ни было сегодня? — гневно крикнула старая гадалка. — С каких пор мои приказания не исполняются? Немедленно чтобы все ушли… все до последнего человека, а кто не захочет подчиниться, тот пусть никогда больше на порог мой не ступает… Поняла?
Старая цыганка молча скрылась за дверью. Государь тоже встал, чтобы уйти.
— Нет, вы обождите. Негоже вам перед народом в трущобе у старой цыганки показываться!
И она властным жестом задернула занавеску, чтобы даже тень ее высоких посетителей не могла быть замечена через наружное окно.
Лишь через некоторое время государь мог удалиться от старой гадалки. Он был хмур, пасмурен и таким вернулся во дворец. Очевидно, разговор цыганки расстроил его, и даже обычное остроумие и шутки его брата не могли исправить это настроение.
IV
Заря новой жизни
Второй выход молоденькой Асенковой в той же роли молодого гусара был вторичным торжеством молоденькой артистки. Публика принимала ее восторженно. Куплеты ей пришлось бисировать под гром единодушных аплодисментов, и Гедеонов, не помнивший себя от восторга и счастья, чуть ли рук не целовал у хорошенькой дебютантки.
Государь, как обещал накануне, привез с собою в театр двух молодых иностранных принцев, и те, по его выражению, «руки себе отбили», аплодируя молоденькой дебютантке, а из оркестра Асенковой подали два букета, к одному из которых были прикреплены дорогие бриллиантовые сережки.
Она не помнила себя от восторга, но не только не гордилась своим внезапным и крупным успехом, а была, напротив, вдвое милее и внимательнее к своим товарищам, несмотря на то, что большинство из них смотрело на нее с явной завистью и недоброжелательством.
По окончании водевиля государь снова прошел за кулисы, и тут всем стало понятно, кем прислан был хорошенькой дебютантке роскошный букет с богатым приложением.
Асенкова горячо благодарила императора за все его милости, весело и оживленно отвечала на его расспросы о ее личных делах, наивно и доверчиво сообщила ему, что успела побывать в богадельне у матери и передать ей о всех своих крупных удачах и о счастливой перемене в ее судьбе. Затем она с восторгом услышала от государя, что не далее как на этой же неделе она будет иметь возможность перевезти свою мать к себе на квартиру, наймом которой озаботится, по его поручению, театральное начальство.
Все это ясно говорило о том, что каприз царственного деспота выразился совершенно определенно. Все это видели и отчетливо понимали. Все почти на косточках выкладывали приблизительный подсчет того, на что может рассчитывать новая фаворитка, только она одна не могла и не хотела осознать всю особенность своего положения и никак не могла уяснить себе причину той досадливой грусти, которую обнаруживал ее Гриша.
После отъезда государя из театра, когда Асенкова, уже переодевшись, собиралась идти домой, она была вызвана в кабинет директора, который пригласил ее прийти к нему на другой день утром, к одиннадцати часам. Причины этого вызова Асенкова не знала, но он не возбуждал в ней тех опасений, какими обыкновенно сопровождаются в труппе подобные начальнические вызовы. Выговора она, во всяком случае, не ожидала.
Уходя из театра, Асенкова послала сторожа в мужскую уборную вызвать молодого артиста Нечаева, который на этот раз сам не вышел к ней навстречу. Вначале он отказался прийти, сославшись на головную боль, но после вторичного вызова пришел расстроенный и бледный, как полотно.
Асенкова прямо-таки испугалась, взглянув на него.
— Что с тобою, Гриша? — спросила она. — На тебе лица нет.
— Ничего особенного, голова болит немножко, — ответил Нечаев и после минутного молчания прибавил: — Ты зачем меня звала? Тебе нужно что-нибудь?
— Ах, Боже мой, конечно! Нужно, чтобы ты меня проводил. Не одна же я пойду. Хотя и близко, а все-таки неловко! Всех провожают, я одна только, как обсевок в поле.
— Ну, этот обсевок, мне кажется, так культивируют, что на недостаток ухода ему жаловаться не приходится.
— Культивируют, да не ты! — капризно заметила Асенкова.
— Не все ли равно, кто? Что мой уход в сравнении со всем тем, что окружает тебя?
Асенкова сделала нетерпеливое движение.
— Ну, слушай! — сказала она. — Оденься, да и пойдем со мною. Надо же, наконец, объясниться и толком понять друг друга.
— Я тебя уже понял, — ответил Нечаев таким тоном, от которого у нее кровь в лицо бросилась.
— Пойдем! — повелительно сказала она. — Если я говорю «пойдем», так, стало быть, пойдем!
— Хорошо, — сказал Нечаев, — но только предупреждаю тебя, что сегодня мне с тобою чаи распивать некогда. Я долго не останусь!..
— Ты останешься столько, сколько мне это нужно будет, — решительным тоном проговорила юная артистка. — Окончим мы наш разговор, я и сама отпущу тебя. А так нельзя. Ты мне все удовольствие отравляешь, ты, как кошмар какой, передо мною стоишь.
— Ну и прочь его с дороги, этот зловещий, негодный кошмар, совсем его прочь! — желчно проговорил Нечаев, надевая фуражку и следуя за своей подругой по училищу к выходу.
В комнатке молоденькой артистки на этот раз, уже без спроса и требования с ее стороны, было все приготовлено не только для полного вечернего чая, но и для легкого ужина. На столе стояли даже ваза с фруктами и большая коробка конфет.
Сначала Асенкова по-детски обрадовалась всем этим неожиданным благам, но, взглянув на побледневшего Нечаева, как будто растерялась и сконфуженным тоном проговорила:
— Я, право, не понимаю, откуда все это. Я никому не поручала, никого ни о чем не просила.
— И просить не нужно было, — с насмешливой гримасой проговорил он. — Сами догадались. Дай срок, и не то еще будет. Кареты подавать станут к подъезду, лакеев ливрейных заведешь.
— Кареты казенные за всеми нами приезжают, тут невидали нет никакой. А насчет лакеев ливрейных ты не мели, неоткуда мне их достать. На жалованье свое я их нанимать не стану, а лишних денег у меня нет и взять их негде.
— Мало ли в казне денег! — зло рассмеялся Нечаев. Варя всплеснула руками и по-прежнему весело расхохоталась.
— Что же, я казну, что ли, грабить пойду, по твоему мнению? Ей-богу, ты обалдел, Григорий Ильич, прямо-таки обалдел. Другого и слова для тебя не подыщешь.
Нечаев встал и подошел к ней.
— Скажи ты мне на милость, — начал он таким резким и дерзким тоном, каким никогда еще не разговаривал с нею. — Долго ты еще намерена меня дурачить? Что ты, жалеешь меня, что ли, уж очень, что думаешь меня своим притворством хоть временно утешить? Или за дурака меня пошлого считаешь? Или, быть может, тебе… при новом твоем положении и впрямь нужен дурак муж, который грехи твои и все твои шашни покрывал бы своим именем, хотя и плебейским, да честным? Так на меня в этом отношении не рассчитывай! У меня совесть непродажная. Я, когда вздумаю жениться, так для себя жену возьму, а не для пополнения чужих гаремов.