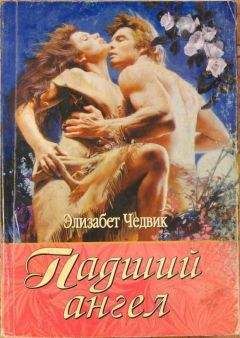Марго Арнольд - Падший ангел
Стараясь отвлечь меня от грустных мыслей, он даже предложил вместе совершить путешествие по Бельгии, о котором я мечтала уже давно. Было интересно увидеть великое поле битвы при Ватерлоо, но мне оно показалось обычной деревенской местностью, которая когда-то была ненадолго разбужена ото сна громом пушек.
Там ничего не было от Дэвида, хотя его тело и покоилось где-то неподалеку. Дэвид остался в полях и лесах Спейхауза, на Уорик-террас, возможно, даже в маленьком коттедже в Рэе. Но здесь, в этих чужеземных полях, его не было. Впрочем, думаю, Артур так и не понял, почему я не захотела взглянуть на могилу Дэвида.
Мы вернулись, и я делала все, чтобы Марта и остальные как можно дольше не замечали нараставшую во мне боль. Марта, которая была уже очень стара – даже старше Джереми, – за прошедшие годы усохла и телом, и умом, став больше походить на обычных людей. Временами она становилась сварливой, и я не завидовала слугам, которым приходилось испытывать на себе ее все еще железную руку.
Когда уже стало невозможно скрывать от нее правду, нам с Джереми пришлось убедиться, что мы ошибались в наших предположениях на ее счет. Мы были удивлены тем, как стойко встретила Марта страшную весть – так же стойко, как встречала она их всегда. Ее видимое безразличие задело Артура, и в несколько резкой форме он начал пенять ей за «безжалостное» отношение ко мне.
– А о чем тут жалеть! – прокаркала она в ответ. – Время сожалений давно прошло.
Как всегда, она понимала меня слишком хорошо.
С начала этого года терзающая меня боль заметно усилилась. Она появляется постепенно в нижней части тела, с левой стороны, и растет до тех пор, пока не превращается в огненный шар, раздирающий меня на куски. Наверное, то же самое почувствовал Дэвид в момент гибели. Но вследствие его праведности он испытал эту муку лишь на мгновение и тут же освободился от нее. Я же слишком много грешила в своей жизни и теперь должна была сполна расплатиться за это. Поэтому боль возвращается ко мне снова и снова, оставляя меня опустошенной, в страшном ожидании нового приступа.
В перерывах между этими страданиями я и попыталась подвести итог своей жизни. Обитатели Оксфордшира, считающие меня дважды овдовевшей женщиной гранитной добропорядочности, были бы более чем удивлены, если бы смогли ознакомиться с результатами моих подсчетов. Каков же итог? Шестнадцать лет вакуума, четырнадцать лет полужизни, семь лет, пять месяцев и одна неделя полного счастья, двадцать два года ожидания и оберегания детей. Странная бухгалтерия, но такой ее сделали мы с моей судьбой, так что на цифры эти мне пенять не приходится.
Теперь боль становится все более невыносимой и приходит все чаще, а светлые промежутки становятся все короче. Я знаю, что скоро боль вернется и будет расти до тех пор, пока мои чувства, мой рассудок, мое сердце не сгорят в ее последнем костре. И тогда я снова пойду по схваченным морозцем аллеям парка в Солуорпе и увижу багровую красоту осенних деревьев, а навстречу мне широкими мальчишескими шагами будет идти Дэвид. Я пойду к нему через заснеженные зимние поля. А потом вновь наступит весна.
Послесловие
Я обнаружил эту рукопись после смерти моей матери осенью 1837 года. Мать писала ее на протяжении последних нескольких месяцев, но никогда не посвящала меня в ее содержание. Поэтому, когда я прочитал все это, я был потрясен и решил, что мучительная и неизлечимая болезнь, унесшая мою мать, под конец дней помутила ее рассудок и сделала возможными те дикие галлюцинации, что содержатся в этом манускрипте.
Я всегда знал, что моя мать происходила из бедной, но порядочной семьи Колливер в графстве Кент, что она вышла замуж за моего отца Эдгара Спейхауза вскоре после смерти его первой жены и что их семейная жизнь длилась недолго, трагически закончившись гибелью моего отца, посланного служить в Вест-Индию. Затем, после долгого периода страданий, ода вновь вышла замуж за коллегу моего отца – подполковника Прескотта, которому в этом необычном документе посвящено так много страниц. Вообще-то об отчиме у меня остались очень смутные воспоминания – мне было всего одиннадцать лет, когда он нашел свою смерть на поле Ватерлоо, но, должен признаться, я не могу вспомнить ничего необычного об этом человеке. Тем более в моей памяти не осталось никаких свидетельств той великой страсти между ним и моей матерью, которую она так ярко живописует.
Продолжая разбирать ее бумаги в надежде найти доказательства того, что вся эта история полностью абсурдна, я с удивлением обнаружил среди старых семейных пустяков сохраненную ею пачку писем от моего отчима, написанных им во время кампании Ватерлоо, и их миниатюры. Затем я вспомнил, что незадолго до смерти матери ее приезжал проведать старый адвокат нашей семьи Джереми Винтер. Я подумал, что, возможно, она поручила его заботам семейный архив, и поехал в Лондон, чтобы увидеться со стариком, но это оказалось пустой тратой времени.
Одряхлевший Винтер, видимо, окончательно впал в маразм. Когда я рассказал ему о рукописи, оставленной матерью, он радостно закудахтал и сказал:
– Слава Богу, значит, она все же написала обо всем этом! Замечательной женщиной была ваша мать, поистине замечательной!
– Я предполагаю, сэр, что она дала вам на хранение бумаги нашей семьи, – сказал я, с трудом сдерживая нетерпение. – Теперь мне хотелось бы забрать их, поскольку благодаря данной рукописи я оказался в крайне двусмысленном положении.
– Отчего же, мой мальчик? – по-детски просюсюкал он.
– Оттого, что если я не смогу опровергнуть содержащиеся здесь голословные утверждения, то все мои права на Спейхауз окажутся полностью несостоятельными.
– Чепуха! – воскликнул старикашка, отвлекаясь от воспоминаний, в которые он погрузился. – Могу заверить вас, что вы являетесь единственным и абсолютно законным наследником Спейхауза. Я сам видел документы.
– В таком случае соблаговолите передать их мне, – не отступался я.
– О-о! – застонал он, всплеснув руками. – Произошла ужасная вещь, мой мальчик, просто ужасная! Однажды в моей конторе вспыхнул пожар – страшный пожар! Все сгорело дотла. Ужасно, ужасно… – И он задремал, что-то бормоча себе под нос.
Сознаюсь, я потерял терпение и стал трясти его за плечи.
– Вы хотите сказать, что все бумаги пропали? Старик приоткрыл слезящийся голубой глаз и посмотрел на меня.
– О нет, не все. Где-то что-то должно было остаться.
Порывшись вокруг себя, он вытащил наконец несколько обгоревших по краям листов. Это были свидетельство о моем крещении, метрика Каролины и разрозненные листки из писем отца, в которых, находясь в Вест-Индии, он излагал планы относительно моего образования.