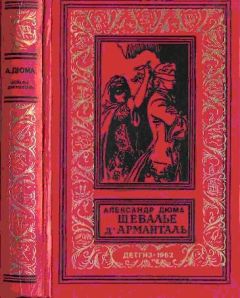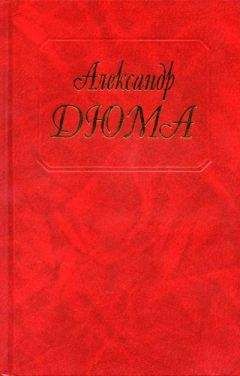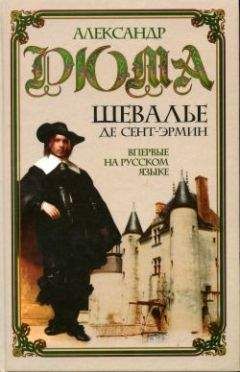Александр Дюма - Шевалье де Мезон-Руж
Это сочетание физических, нравственных и гражданских качеств привело к тому, что Морис участвовал в штурме Бастилии, в походе на Версаль. 10 августа он сражался как лев, но в этот памятный день — надо отдать ему должное — он убил столько же патриотов, сколько и швейцарцев: он не хотел мириться ни с убийцей в карманьоле, ни с врагом Республики в красной одежде.
Это он, чтобы убедить защитников дворца сдаться и напрасно не проливать кровь, бросился на жерло пушки, из которой собирался выстрелить парижский артиллерист. Это он первым проник в Лувр через окно, несмотря на огонь, который вели из засады пятьдесят швейцарцев и столько же дворян. И еще до того как он заметил сигнал капитуляции, его страшная сабля успела разрубить более десятка защитников дворца. Затем, увидев, как его друзья убивают пленных, которые бросили свое оружие и умоляли о пощаде, протягивая руки, он принялся яростно рубить своих друзей, что сделало его репутацию достойной славных времен Рима и Греции.
Когда была объявлена война, Морис поступил на военную службу и в звании лейтенанта уехал вместе с первыми полутора тысячами волонтёров, посланных в бой городом, а за ними каждый день должны были отправляться следующие полторы тысячи.
В первом же бою, при Жемапе, он был ранен: пуля, пробив стальные мышцы его плеча, засела в кости. Представитель народа, знавший Мориса, отослал его в Париж на поправку. В течение месяца, терзаемый лихорадкой, он корчился от боли, но в январе уже был на ногах и возглавлял — если не формально, то фактически — клуб Фермопил, то есть командовал сотней молодых людей, выходцев из парижской буржуазии, вооруженных и готовых противостоять любой попытке, предпринятой в пользу тирана Капета. Морис, гневно сдвинув брови, бледный, с расширившимися глазами, с сердцем, сжимавшимся от странного чувства ненависти в душе и жалости в сердце, присутствовал с саблей в руке при казни короля и был, может быть, единственным, кто в толпе молчал, когда голова этого потомка Людовика Святого удала, а душа вознеслась на небо. И только после казни он поднял вверх свою страшную саблю. Все его друзья кричали: «Да здравствует свобода!», не замечая, что на этот раз, как исключение, его голос не присоединился к их крикам.
Вот каков был этот человек, который направлялся утром 11 марта на улицу Лепелетье и которого мы постараемся доказать более зримо, останавливаясь на всех подробностях его бурной жизни, характерной для той эпохи.
К десяти часам Морис пришел в секцию, секретарем которой он был.
Волнение там было сильным: обсуждался вопрос о том, чтобы направить в Конвент обращение с требованием пресечь жирондистские заговоры, и с нетерпением ждали Мориса.
Много говорили о шевалье де Мезон-Руже, о смелости, с которой этот упорный заговорщик во второй раз вернулся в Париж, где за его голову — и он знал об этом — была Назначена большая сумма. С этим возвращением связывали попытку освобождения королевы, совершенную накануне в Тампле, и каждый выражал свое негодование и свою ненависть к предателям и аристократам.
Но, вопреки всеобщему ожиданию, Морис был мягок и молчалив; он искусно сформулировал воззвание, сделал за три часа всю свою работу, спросил, закончено ли заседание, и, получив утвердительный ответ, взял шляпу, вышел из клуба и направился на улицу Сент-Оноре.
Когда он пришел туда, Париж показался ему совсем другим. Он вновь увидел угол Петушиной улицы, где ночью перед ним предстала прекрасная незнакомка, отбивающаяся от волонтёров. Потом он дошел до моста Мари той же дорогой, что и накануне, останавливаясь там, где их задерживали патрули, вспоминая разговор с незнакомкой, как будто улицы могли сохранить эхо слов, которыми они обменивались. Сейчас, в час дня, при свете солнца, воспоминания прошедшей ночи оживали на каждом шагу.
Миновав мосты, Морис вскоре пришел на улицу Виктор, как ее тогда называли.
— Бедная женщина! — прошептал Морис, — она не подумала вчера, что ночь длится только двенадцать часов и ее тайна перестанет быть тайной с наступлением дня. При свете солнца я найду ту дверь, в которую она ускользнула, и кто знает, не увижу ли ее в каком-нибудь окне.
Он вышел на Старую улицу Сен-Жак и остановился в той же позе, в какой незнакомка оставила его вчера. На мгновение он закрыл глаза, возможно надеясь, — бедный безумец! — что вчерашний поцелуй во второй раз обожжет его губы. Но ничто не обожгло его, кроме воспоминаний.
Морис открыл глаза и увидел две улочки — одну справа, другую слева. Они были грязны, плохо вымощены, загромождены заборами, пересечены мостиками, перекинутыми через ручей. Бросались в глаза деревянные арки, закоулки, плохо прикрытые полусгнившие двери. Это была нищета во всем своем безобразии. То тут, то там виднелся садик с изгородью или палисадник с подпорками, кое-где оградами служили стены. Под навесами сушились кожи, распространяя тот омерзительный тошнотворный запах, которым отличаются кожевенные мастерские. Морис по-всякому вел свои поиски в течение двух часов, но ничего не нашел, ничего не разгадал. Раз десять он возвращался, чтобы осмотреться, но все его попытки найти незнакомку были бесполезны, и поиски закончились безрезультатно. Казалось, что следы молодой женщины смыты туманом и дождем.
«Что ж, — сказал себе Морис, — вероятно, мне все это пригрезилось. Эта клоака ни на мгновение не могла быть убежищем для моей прекрасной феи».
В нашем суровом республиканце была поэзия куда более истинная, чем в анакреонтических четверостишиях его друга, ибо Морис пришел к этой мысли, чтобы не потускнел ореол, сияющий над головой его незнакомки. Домой он вернулся в отчаянии.
— Прощай, таинственная красавица! — сказал он. — Ты обошлась со мной как с ребенком или дураком. Действительно, разве пришла бы она туда со мной, если бы там жила? Нет! Она лишь пролетела там, как лебедь над смрадным болотом. И, словно у птицы в воздухе, след ее невидим.
VI
ТАМПЛЬ
В тот же день, в тот самый час, когда Морис в печали и разочаровании возвращался к себе через мост Турнель, группа муниципальных гвардейцев в сопровождении Сантера, командующего национальной парижской гвардией, производила обыск в башне Тампля, переоборудованной с 13 августа 1792 года в тюрьму.
Особенно тщательно этот обыск производился в покоях на четвертом этаже, состоявших из передней и трех комнат.
В одной из комнат находились две женщины, молодая девушка и девятилетний ребенок; все они были в трауре.
Старшей из женщин было лет тридцать семь-тридцать восемь. Она сидела за столом и читала.