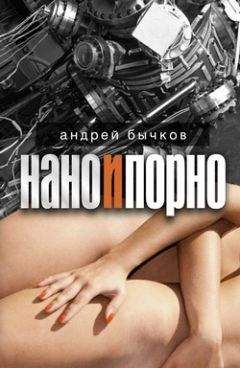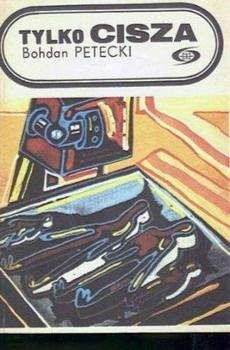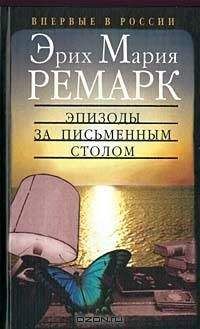Мария Крестовская - Ранние грозы

Обзор книги Мария Крестовская - Ранние грозы
Живой и тонкий ум, наблюдательность и чувство меры писательницы делают ее самобытной и неповторимой!
Мария Всеволодовна Крестовская
Ранние грозы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
…В кабинете настала тишина, та мучительная, тоскливая тишина, которая всегда следует за каким-нибудь тяжелым объяснением.
Муж и жена продолжали еще сидеть, по-видимому, спокойно, и в комнате слышалось только нервное дыхание Марьи Сергеевны.
Итак, все кончено!
Все, чем жили столько лет, к чему привыкли за эти долгие годы, что когда-то любили…
В руках у Марьи Сергеевны был тонкий кружевной платок, и она нервно теребила и рвала его кружева похолодевшими пальцами.
Оставалось только уйти… Но почему-то именно в эту минуту ей было тяжело это сделать, и она продолжала бесцельно сидеть на низкой турецкой оттоманке, на которую опустилась, войдя к мужу для того, чтобы переговорить с ним в последний раз.
И вот они переговорили.
И как просто все вышло, гораздо легче, нежели она ожидала…
Марья Сергеевна устало отвела глаза от догоравшего камина и искоса взглянула на мужа.
Он сидел за своим письменным столом с таким же бесстрастным и холодным лицом, как и всегда… Массивная бронзовая лампа под зеленым абажуром, ярко освещая стол и разбросанные на нем бумаги, освещала его лицо каким-то зеленоватым светом, придававшим ему еще большую бледность.
Марья Сергеевна пытливо взглянула в это лицо, точно желая прочесть в нем что-то, но не прочла ничего.
Даже глаза, опущенные вниз, на бумаги, ничего не выдавали; только тонкая рука его, ярко освещенная лампой, как-то судорожно барабанила по столу.
И Марья Сергеевна машинально разглядывала так хорошо знакомую ей руку, на которой в эту минуту она с необычайною ясностью видела каждую жилку, морщину и даже густую тень темных волос, уходившую в глубь рукава и становившуюся к локтю все темнее. А тишина и точно вынужденное, выжидающее молчание становились все тягостнее.
Она еще раз вскинула глаза на мужа и нетерпеливо передернула плечами. Ее всегда сердила невозможность и неумение разгадывать душу своего мужа по его лицу.
Наконец, лениво, точно делая над собой усилие, она приподнялась с оттоманки и глубоко вздохнула, не то от усталости, не то от невольной грусти, и тоскливо окинула взглядом весь кабинет, как бы прощаясь с ним, как бы невольно жалея, что была в нем в последний раз, и вдруг ее глаза встретились с другими, смотревшими прямо на нее со стены кабинета из золоченой рамы.
Марья Сергеевна разом вздрогнула, схватившись рукой за сердце.
Вот оно, то, что еще не обговорено между ними. Марья Сергеевна не хотела сегодня касаться этого предмета, по-женски откладывая самое тяжкое до другого, хотя бы и непродолжительного времени. Но теперь она почувствовала, что не в силах тянуть эту пытку…
Муж, подняв голову, взглянул в ту сторону, куда глядела она, и ее ужас точно отразился и на нем; молча, с каким-то болезненным выражением, смотрел он вместе с женою на улыбавшуюся им из рамы детскую головку.
Кругленькое личико с обстриженными по-русски темными волосами плутовато улыбалось им, точно подсмеиваясь над ними.
– Наташа! – проговорила наконец Марья Сергеевна чуть слышно, с видимым спазмом в горле…
Павел Петрович отвел глаза от портрета дочери и еще угрюмее опустил голову. Он чувствовал на себе взгляд жены.
Она глядела на него молча, спрашивая его одними глазами, и, не говоря сама ни слова, казалось, требовала его ответа.
Кончено?! Еще несколько секунд тому назад она с облегченною душой думала, что все уже кончено, все выяснено! Да разве выяснено хоть что-нибудь, когда не выяснено самое главное, самое мучительное?!
А если он не отдаст ей Наташу!
Все права, и законные, и нравственные, на его стороне, но она с самого рождения своей девочки привыкла считать ее своею неотъемлемою собственностью, своим телом, своею душой, таким могучим дополнением ее собственного «я», без которого немыслимо существование ее самой.
И вот на это существо, на этого «ее» ребенка другой человек, который отныне делался ей совершенно чужим и посторонним, имеет одинаковое право с нею! И даже большее! Она, жена его, бросает его теперь, после пятнадцати лет совместной жизни, уходит от него, потому что полюбила другого человека. Значит, в глазах света и перед ее собственною совестью, прав муж, а не она, и, следовательно, все права на дочь остаются за ним и отнимаются у нее.
Она крепко прижала холодные как лед руки к своей груди, точно инстинктивно хотела остановить болезненно-учащенные удары сердца.
«Неужели он отнимет? Неужели отнимет?» – стучало у нее в голове.
Марья Сергеевна бессильно опустилась на стул.
Боже мой, Боже мой, но о чем же она думала раньше? Все время она делала выбор между мужем и тем, кого любила, – и только теперь в первый раз ей пришло в голову, что, может быть, выбор придется сделать не между нелюбимым мужем и боготворимым человеком, а между ее собственным ребенком и этим человеком!
Вглядываясь в лицо мужа, она чувствовала скорее инстинктом, нежели сознанием, что он не уступит ей дочь легко и без борьбы, и, тоскливо ломая руки, не сводила с него глаз.
– Павел Петрович… не отнимайте…
Слова путались и застревали у нее в горле, ей вдруг стало страшно выговорить всю фразу: что, если он ответит «нет»!
И с этим «нет» будет убито все, вычеркнется самая дорогая ей страница жизни! О, быть не может! Он добр, она готова умолять, унижаться перед ним, но она не выйдет из этого дома, пока он не уступит ей Наташу.
Марья Сергеевна вдруг с судорожным рыданием вскочила со стула и бросилась перед мужем на колени.
– Отдайте, отдайте ее мне… ради прошлого, отдайте!..
Она страстно ловила его руки и прижималась к ним залитым слезами лицом. Павел Петрович растерянно и сконфуженно вскочил со своего кресла и старался поднять ее, но она не вставала, впиваясь в него глазами и повторяя только: «Отдайте, отдайте».
– Ради Бога, Марья Сергеевна… Встаньте… К чему это, встаньте же.
Его нервы были уже расшатаны последними днями, он чувствовал, что ее истерический припадок заражал и его. Что-то душило его, и он, с непривычною ему злобой, вырвался от нее и насильно поднял ее с колен.
– Сядьте! – коротко приказал он.
Марья Сергеевна, рыдая, повиновалась ему и, уронив голову на стол, судорожно всхлипывала и вздрагивала всем телом. Павел Петрович нервною, точно разбитою походкой отошел от стола и прошелся несколько раз по кабинету, искоса угрюмо взглядывая то на жену, то на портрет дочери.
Наконец, вздохнув всею грудью и точно почувствовав облегчение, он снова подошел к столу и налил стакан воды. Его рука еще дрожала, но лицо уже опять приняло спокойное, бесстрастное выражение. Он подал стакан жене.